Часть 3. Будущие исследователи
Помню, мне тогда казалось,
Что трепещущую душу
Проношу я, как ребенка
С удивленными глазами,
Через льды, луга и скалы,
Сквозь пихтарник заповедный...
Сквозь заповедник
Учение о рельефе
В старинном здании Московского университета ютился географический факультет. Начались лекции, и первые же из них, прочитанные профессором Щукиным, сделали этого отнюдь не красноречивого человека на долгое время властителем моих дум. Его курс назывался геоморфология. Это было учение о рельефе, не просто о застывших формах поверхности, а о происхождении, о жизни рельефа, короче говоря, об исторически развивающемся рельефе. Что в ту пору могло быть для меня более привлекательным? Ведь я уже столько раз сам становился в тупик перед необычайностью скульптуры и архитектуры лика Земли!
Я удивлялся, что многие из моих новых коллег слушают эти лекции без увлечения. Вот Иван Семенович рассказывает об «исполиновых котлах» — так называются ямы под водопадами, выдолбленные в русле низвергающейся струей воды. Со скукой записывает эти слова девушка, не видавшая в жизни ни одного водопада. А для меня это кровное, пережитое: именно в такой исполинов котел упал при мне турист у водопада Ачипсе. Не будь этого котла — он разбился бы.
А отступание водопадов и овражных отвершков вспять к верховьям? Водопад сгрызает и заставляет отодвигаться назад тот самый уступ, с которого вода низвергается. Получается пятящаяся эрозия.
Мы узнали о великих силах размыва, сдувания, стирания неровностей, о силах, которые стремятся сгладить и превратить земную поверхность в равнину. И о встречных, изнутри рожденных силах земной коры, противостоящих этому размыву, взламывающих, коробящих земную поверхность, заставляющих тороситься, крениться отдельные глыбы.
Покорные этим силам, воздымаются, словно при вздохе, или погружаются, как при выдохе, груди целых материков...
Перед умственным взором возникала стройная картина процессов, способных громоздить и разрушать, лепить и вырезать рельеф.
Лекции о ледниковых формах поверхности были особенно радующим откровением. Все виденное и непонятное на ледниках Псеашхо получало определения. Еще так недавно мне казалась необъяснимым дивом красота высокогорных цирков Ачишхо и Аибги — правильность их чашевидных форм, многоярусное и смежное расположение целых рядов кресловин. А из объяснений профессора Щукина вытекало, что эти чаши — закономернейший результат воздействия оледенений.
Любой ледник, залегший в выемке на склоне горы, неумолимо стремится превратить ее именно в цирк. Но он не выпахивает и не выкапывает ее — ведь это не экскаватор. Ледник огладил, отшлифовал лишь дно впадины. А кто же объел, обтесал отвесные стены цирка?
Виновник известен. Это... климат. Да, приледниковый климат с его температурами, то и дело переходящими через ноль градусов. Раз такие переходы часты — значит, и в трещинах, пронизывающих скалы, столь же часто то замерзает, то оттаивает вода. Она размораживает, раздвигает трещины, и, таким образом, к обычному выветриванию склонов присоединяется еще и морозное выветривание.
В щелях между ледником и стенами цирка морозное выветривание особенно интенсивно разъедает склоны гор, как бы подкапывая их. Подточенные участки скал рушатся, из них потом образуются морены. А самый склон, подкапываемый снизу, становится с каждым обвалом все круче, пока не превращается в отвес. В дальнейшем задние и боковые стены, окружающие ледник, расступаются все шире, но продолжают оставаться отвесными.
Все это было про ледники. Для Псеашхо такой удивительный механизм подкопа под гребни гор — сущая правда. Но на Аибге нет ледников, а снежники в середине лета стаивают. Почему же так правильно кресловидны, словно архитектором построены, цирки Аибги? В науке и на это уже известен ответ. Оледенение здесь существовало прежде. Цирки — его следы, свидетели былого, древнего оледенения, свирепствовавшего здесь, вероятно, в ту же пору, когда и на равнине Севера лежал великий материковый ледник...
Конечно, это наука не простая. Возможно, что и только что приведенное объяснение образования цирков кого-то отпугнет ученостью. Но я слушал лекцию о цирках, как поэму: мне становилось ясно, почему они как бы подвешены на определенной высоте в виде балконов в верховьях каждой долины на былом уровне снеговой границы — это цирки моей Аибги; почему бывают сгруппированы в лестницы (их ступени отмечают не только выходы стойких пород на дне долин, но и этапы поднятия снеговой границы при потеплении и отступании ледников) — это о водопадных ступенях в верховьях Ачипсе.
Теперь я знал, что встречу цирки и на многих других хребтах, превышающих 2000 метров — уровень, выше которого наверняка действовало древнее оледенение.
Цирки не только «живут», но способны и отмирать. Изменится, потеплеет климат, поднимется снеговая граница, сократятся или исчезнут ледники и снежники, некому будет больше «подметать» и удалять щебень, и тогда цирки будут засыпаны осыпями: из сферических чаш они постепенно превратятся в конические воронки, а дно этих водосборных воронок изроют своими ветвящимися верховьями ручьи. Ведь и это я видел в Первом цирке Аибги, а над причинами не задумывался...
Нас научили читать, как в книгах, в обрезах горных пород (теперь пришлось выражаться геологически — в обнажениях) историю формирования гор. Незыблемые, казалось мне, хребты вдруг утратили свою извечность, как бы зашатались, оказались построенными из глинистых пластов, настланных друг на друга, как скатерти, из мергельных и песчаниковых плит, из крошащегося ракушечного известняка, из окаменевших скелетов невесть когда живших организмов. Грандиозные памятники, гробницы миллиардов некогда кишевших жизней... И невольно возникала мысль: неужели и мои краснополянские святыни — дворцы, замки, крепости, мои Псеашхо и Аибги тоже окажутся лишь обкусанными ломтями, фрагментами древних кладбищ, нагромождениями окаменевших скорлуп?
Сначала мне показалось, что с утратой мнимой незыблемости горы потеряли и часть своего величия. Шаткие, невечные, переменные... Никакие не алтари, не троны. Вершины — это всего лишь недоеденные речной эрозией огрызки существовавших ранее плоскогорий. Самая величавая скала — объедок, руина.
Мысль работала и дальше. Хорошо, вершины — остатки, выкроенные размывом из исходных плоскогорий, то есть из чего-то еще более величественного. А это нечто большее само как-то произошло. Значит, плоскогорья были некими силами подняты на такую высоту, что из них при разрушении могли получиться вершины. А до того, как подняться, плоскогорья были выровнены размывом; еще ранее недра их были смяты в складки, а до складчатости построены из напластований, отложенных в море. Отсюда еще один вывод: до смятия и поднятия каждый из этих пластов был некогда морским дном...
Можно ли, хотя бы в самой общей форме, обнять все это? Пытаюсь, и в мыслях встает картина еще большего величия. Величия исполинских размеров, непомерных масштабов, бездонных сроков.
Учение о ландшафте
Молодых университетских географов обучали не только истории рельефа. Вся природа, совокупность всех ее отдельных сторон — климата, вод, недр, почв, жизни, все перекрестные многострунные связи между ними, создавшие ландшафт Земли и любого участка ее поверхности, раскрывались перед студентами. Было время, когда география казалась мне большой адресной книгой, отвечавшей на вопросы, где что находится, помогавшей ориентироваться в пространстве. Теперь же оказывалось, что география была не только описательной наукой. Она вырастала во всеобъемлющий свод знаний обо всей приповерхностной ландшафтной сфере Земли.
Как созвучно это было всем моим кавказским впечатлениям и представлениям! И как хорошо, что понятие ландшафт значило не только то же, что и пейзаж, как мне казалось прежде, обнимало собою не только внешний вид местности, а и все, что не видно, но познано. Горно-черноморский, краснополянский ландшафт, конечно, включал в себя видимый облик Псеашхо, Аибги и Ачишхо с их снежниками, лугами и лесами. Но теперь я знал, что в состав ландшафта входят и недра этих гор, вздыбленные по еще неведомым мне надвигам; что в ландшафте запечатлелись и воздействия древних оледенений — то леденящие, то шлифующие, и смены горно-долинных ветров, и сложные связи рельефа с растительностью, и еще многое другое. Более того, ландшафт отныне переставал для нас быть чем-то только сегодняшним, современным: он жил, развивался, рос, за ним стояла, по его чертам читалась и в нем же многое объясняла история. География обогащалась познанием прошлого, дополнялась палеогеографией.
Профессор Мазарович приоткрыл нам на своих лекциях необозримые тайны былого — историческую геологию. Эта наука оказалась совсем не хаотическим нагромождением ярусов, эр и ихтиозавров, как представлялось раньше. Перед нами раскрылась изумительная эпопея жизни Земли со своими ритмами, этапами расцветов и захирений. Это была летопись чередования периодов покоя и периодов потрясений, трагедий, и вместе с тем летопись неуклонного усложнения, обогащения, прогресса жизни.
...Качались в своих глубоких океанских «ваннах», а иногда выплескивались за их пределы на соседние равнины целые моря и океаны; прогибались, одновременно заполняясь наносами, впадины; торосились, как льдины, сминались и дробились геологические напластования; дыбились горные страны, неся на своих поверхностях шрамы, зарубки и следы уровней древних равнин. Плодились диковинные чудовища, словно природа экспериментировала, что можно создать еще хитрее, еще умнее приспособленное к внешним условиям. Но тысячи опытов оказались неудачными — в результате в морях и на суше вымирали целые флоры и фауны...
Обо всем этом Мазарович говорил патетически красочно, находя слова, достойные величия описываемых событий.
Больше всего в его лекциях мое внимание привлек, конечно, Кавказ. С жадным интересом, словно слушая сказителя эпических былин, следил я, как формировались эти горы от эпохи к эпохе. На их месте особенно долго плескались моря, а возникавшие временами складчатые структуры недолго существовали в виде выступов суши. Казалось, я так и не дождусь лекций, в итоге которых Кавказ воздвигся бы перед глазами в своем современном виде. Мы еще не знали, что в те годы неотектоника (наука о новейших движениях земной коры) лишь зарождалась и что профессор Мазарович и сам еще не мог тогда «построить» перед нами эту горную страну до конца. Хорошо рассказывая об истории недр, он поневоле становился поверхностным, когда доходил до этапов образования ныне существующего рельефа Кавказа.
Конечно, бывало, что и студенты многое пропускали мимо ушей. Даже самые увлекательные лекции подчас утомляли, и мысль отвлекалась чем-нибудь посторонним. То писал записки соседке – маленькой светлой Наташе... То рисовал очертания краснополянских гор: на обложке скольких тетрадей с конспектами высились маяками пирамиды Аибги!
Учение о ландшафте... Оно вырастало из чудесного взаимопроникновения геологии с географией. Исторически развивающаяся природа оказывалась при всей своей сложности единым целым, подчинялась стройной системе геолого-географических законов. Напомню, насколько более полной стала для меня красота краснополянских гор, когда я проник в их всего лишь вчерашнее прошлое – в историю Черкесии. А в какие же бездны времени уводило теперь историко-геологическое, палеогеографическое познание любимых мест? Становилось ясно, что и всей жизни будет мало для их полного постижения.
Так родилась во мне потребность изучить, исследовать все тайны природы Красной Поляны, все пути и причины формирования ее рельефа.
Близилось лето, полевая практика. Студенты старались устроиться в различные экспедиции коллекторами. А что, если попасть в качестве практиканта в Кавказский заповедник? Был же Георгий Владимирович практикантом университета в заповеднике!
Смущенный, не умея как следует и рассказать о своем желании, обращаюсь к декану. Профессор Борзов участливо выслушивает, спрашивает, справлюсь ли я с самостоятельной исследовательской работой. Отвечаю, что попытаюсь справиться, проштудирую нужные методики и инструкции... Профессор ведет меня в Зоологический музей и там – в маленькую комнатку, в которой сидит симпатичный пожилой человек с густой каштановой бородкой. У Василия Никитича Макарова добрые лучистые глаза.
Старики встречаются как большие друзья. И когда Борзов рекомендует меня Макарову для самостоятельной работы (это студента-то, третьекурсника!), научный руководитель управления всеми заповедниками страны — это и был Василий Никитич – говорит:
– Ну что ж, поможем. Именно в Кавказский?
...С кем же ехать? Еще на первой учебной практике в Крыму я приметил студента Володю, выделявшегося упорством в работе, дотошностью и серьезностью. Мое предложение заинтересовало его. Ехать с нами была приглашена и Наташа.
Чем мы будем заниматься? Что наблюдать? Все. Всю природу, весь рельеф, распознавать его историю. Но, может быть, это уже известно?
Какое там известно! Даже такие популярные места, как Кардывач и Рица, до неузнаваемости искажены на картах. Сводной работы о рельефе заповедника, об истории этого рельефа нет. Геоморфологической карты заповедника тоже нет. Значит, нам есть что делать! Но как мы будем это делать?
Собрались втроем и явились на консультацию к известному кавказоведу профессору Добрынину, готовые впитать и выполнить любые советы. Борис Федорович спокойно выслушал нас, одобрительно просмотрел ворох изученной литературы по району, которую мы ему притащили, и... не напутствовал нас ничем, кроме самых общих фраз. Вышли от него с пожеланиями успеха в работе, но без твердых рецептов, как работать.
Один из старшекурсников, увидев, что мы обескуражены, утешил:
— Ничего, ребятки, не робейте. Это даже полезно, когда молодежь пускают, как с лодки в воду прямо на глубоком месте, чтобы научить плавать. Кто своей головой нащупает путь к исследованию, из того и толк выйдет. Александр Александрович Борзов так и говорит: «Не поплакав на борозде, пахать не научишься».
Это что же, значит, мы едем плакать на борозде? Нет, подготовимся как только можем. Изучаем «Полевую геологию» академика Обручева, инструкцию профессора Эдельштейна по наблюдениям ледников. Кое-что проясняется — уже видим возможность вести нужные измерения и записи...
К заповеднику с севера
В Белореченской выходим из поезда Москва — Сочи и на рассвете пересаживаемся на уютный домашний поезд, везущий нас по майкопской ветке.
Въезжаем в предгорья. В обрывах скал видны косые напластования: слоеный каменный пирог из более твердых и более мягких пород. Совсем косые на вид хребты. Это чешуевидные несимметричные ступени — куэсты. Как и разделяющие их перекошенные продольные долины, они появляются в рельефе с неумолимой, словно в математике, логикой.
Поперечные реки, текущие в ту же сторону, в которую наклонены пласты, прогрызают предгорные гряды теснинами. Они вымывают податливые породы из-под более стойких известняковых пластов, которые в результате обваливаются. Так без конца подновляется, освежается крутизна обрывов стойких пород, поддерживается их отвесность. Там, где мощнее податливые пласты, вырабатываются обширные продольные понижения — целые долы между параллельными куэстами.
Какая стройность, законность в природе! Мы почувствовали себя скульпторами, способными еще раз изваять именно этот рельеф. Иным он и не мог бы получиться при такой слоистости и неравностойкости материала для ваяния.
Поезд уперся в тупик у станицы Каменномостской. Каменный Мост — это туннельный участок реки Белой, которая прорывается здесь сквозь промоины в известняке. Вспоминаю из своих исторических разысканий, что над обрывами этого Каменного Моста стояло «мехкеме» — судилище горцев. Заподозренных в измене сбрасывали прямо в пропасть. Гибель в порогах считалась неизбежной, но чудом выплывший подлежал оправданию.
Путь вверх по Белой совершаем на конной линейке, встретившей нас по поручению дирекции заповедника. Каменномостское ущелье — первая большая радость на этом пути. Типичная сквозная «долина прорыва» в куэстовой гряде. Отвесные обрывы косонаклонных известняковых пластов, прорезанных широкой и мощной рекою. Пласты наклонены навстречу нашему пути от гор к равнине. Выше по течению они все больше поднимаются над водой, и долина воронкообразным раструбом расширяется — ведь из-под высоко задранных здесь стойких пластов выступили податливые, легче размываемые слои.
Если бы такая же четкость связей недр с рельефом продолжалась и дальше на юг! Но нет, там нас ждут куда более запутанные загадки рельефа.
Южнее обрывов Скалистой куэсты лежит привольная котловина с несколькими ярусами пологих площадок, на которых разместилась станица Даховская. Эти ярусы — речные террасы. Прежде здесь жило черкесское (абадзехское) племя дахо. Отсюда получил свое имя и Даховский отряд генерала Геймана, памятный для Сочи и Красной Поляны.
Густые леса на хребтах. Внизу уже лето, а выше в горах зелень еще полна весенней свежести.
С одного из поворотов долины над зеленью виден кусок пронзительной белизны. Еще не стаявший снег на горе Пшекиш.
Все гуще и глуше леса. Въезжаем во второе ущелье с непоэтичным названием Блокгаузное. Оно не известняковое, а гранитное. Река, поистине Белая от сплошной пены, обезумев, мчится в гладком и крутостенном цельнокаменном желобе. Но даже здесь мы различаем горизонтальные зарубки на отвесных стенах — остатки уровней древних террас; как раз по ним было легче всего проложить дорогу. А пожалуй, плохо, что такие поперечные ущелья называют «долинами прорыва». Река тут совсем не прорвала преграду. Она пропиливала гряду сверху вниз по мере того, как постепенно выдвигалось снизу вверх само это препятствие. Представьте, что здесь не пила опускается на перерезаемое бревно, а само бревно подается вверх под зубцы распиливающей его пилы...
Новое расширение долины. Хамышки. Мирно раскинувшаяся среди садов и кукурузных полей станица. А когда-то это было грозное горное гнездо последних непокоренных абадзехов и главная база «загорных» убыхов и краснополянцев — ахчипсовцев, откуда они снаряжали свои набеги на русские казачьи линии.
Дорога камениста и ухабиста, выматывает душу. Предпочитаем сойти с линейки и идти пешком. Новое ущелье, менее крутосклонное. У его скал кирпично-красный цвет, неожиданно контрастирующий с зеленью леса и голубизной воды. Здесь и почва красная, как в тропиках. Но она покраснела не под влиянием сегодняшнего климата. Ее окраске помогло разрушение коренных песчаниковых плит. Даже ручьи, бегущие из ближайших лощин, несут в Белую красновато-мутную воду. А сами песчаники стали красными по явно климатической, впрочем, очень древней причине. Это сцементированные пески допотопных пустынь, существовавших здесь более двухсот миллионов лет назад. В сухих жарких пустынях накапливались окислы железа — вот и возник красный песок.
Мост через Белую привел нас в небольшой поселок со старочеркесским названием — Гузерипль. Здесь на глухой лесной поляне близ знаменитого большого дольмена помещалась в те годы дирекция Кавказского заповедника.
Смирнов-Чаткальский
Нас принял местный ученый-географ. Настораживала его театрально громкая двойная фамилия: Смирнов-Чаткальский. Пахло апломбом провинциального тенора: обладатель этой фамилии явно пристроил к слишком частому «Смирнову» название Чаткальского хребта Средней Азии, чтобы звучать наподобие Семенова-Тян-Шанского.
Шеф держался не очень приветливо и огорошил нас лобовым вопросом о самой цели нашей поездки.
— Неужели вы считаете, что такие исследования могут быть кому-нибудь нужны?
Было от чего растеряться. Мы откровенно думали, что они нужны прежде всего самому заповеднику. Разве не полезен этому научному учреждению всякий новый вклад в познание его природы, всякое упорядочение представлений о географии его территории? Разве не поможем мы нашими работами последующим исследователям — почвоведам, ботаникам, зоологам, климатологам? Разве не выявим неправильность карт?
Смирнов-Чаткальский иронически выслушал вас и произнес:
— Изучать заповедник ради самого заповедника, развивать науку ради науки — мертворожденное дело, порочный круг. Что вы дадите практике, хозяйству?
Упрек серьезный. Но в нем звучит и крайность: требование, чтобы из любого научного достижения можно было немедленно шить сапоги.
А мы по неопытности еще не умели ответить, что геоморфологические исследования важны для изучения древних металлоносных россыпей, для усовершенствования рисовки рельефа на картах и мало ли еще для чего...
Меня осенил один довод, казавшийся в ту минуту исчерпывающе убедительным. Я сказал:
— Но ведь «инвентаризация территории», стоящая в плане работ заповедника, имеет и оборонное значение! Разве военно-географические выводы из исследований — это не служение практике?
Смирнов-Чаткальский занервничал, заерзал, в глазах заиграла недобрая сумасшедшинка; тоном морализующего пастора он произнес:
— Я не ожидал от вас таких рассуждений. Вы допускаете политический ляпсус. Мы говорим о неуязвимости наших рубежей, имеем все возможности разбить врага на его собственной территории, а вы предлагаете учитывать оборонное значение чего? — гор Кавказского заповедника! Это же равносильно допущению мысли о проникновении противника на Северный Кавказ!
Я еще пролепетал ему что-то насчет приграничности гор Черноморского побережья, но было уже ясно, что этого человека доказательствами не перешибешь. В сущности, зачем мы с ним вообще говорим? Ни мы ему, ни он нам не нужен, работать сумеем и без него...
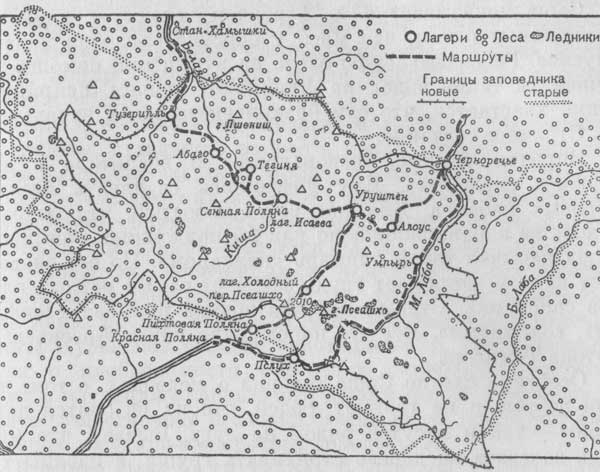
Сквозь царство зубров
Теперь нас четверо: нам придан рабочий при лошади — мрачный и угловатый юноша Саша. Нас предупредили, что это человек лесной, людей не видавший, малограмотный — чтобы не удивлялись.
Перед нами главный маршрут через заповедник с выходом к Холодному лагерю Псеашхо и другим знакомым местам. А до этого пять дней транзитного пути через несколько перевалов, через глубины заповедника, по лесам и лугам, а в июне еще и по снегам.
Иду тут впервые, еще совсем не знаю ни дороги, ни достопримечательностей, ожидающих нас на этом пути. Но впереди Красная Поляна, и я счастлив вести Наташу с Володей словно к себе домой, «в свою страну». И началась эта «страна» сразу же по выходе из Гузерипля. Даже на незнакомой тропе уже понятным, уже любимым был весь обступивший нас ландшафт.
Лаковая листва понтийского рододендрона тонула в лиловой пене его роскошных цветов. Блестела глянцем лавровишня, кололся падуб, вились плющи. Юг, черноморский юг, переплеснулся и сюда, на северный склон. Очевидно, этому помогли «Колхидские ворота» — понижение Главного хребта Кавказа между Ачишхо и Чугушом. Но почему этого вечнозеленого подлеска не было видно до Гузерипля? Ведь там ниже и, значит, теплее, да и достаточно влажно, чтобы расти пышным широколиственным лесам. Впрочем, всегда ли там теплее? Зимой при вторжениях арктического воздуха с севера именно предгорья охватываются его холодом. Мощная на севере, к югу эта «воздушная масса» становится все тоньше, в Предкавказье она не превышает пятисот метров по вертикали. Вот почему она и влияет только на предгорья. Холодные массы воздуха подклиниваются под океан теплого воздуха юга, и получается, что горный мир, паря над холодом подножий, утопает в верхнем, более теплом воздухе. Не холод над теплом, а тепло над холодом. Высотная зональность оказывается как бы опрокинутой.
В течение всего подъема продолжались встречи со старыми друзьями: и с пихтовым лесом, и с вечнозеленым кустарником, и с первыми стеблями высокотравья. Мы поднимались на хребет, именуемый Пастбищем Абаго, а я невольно сравнивал: вот это, как на Аибге... А это лучше, чем на Псекохо... Я так постепенно и долго вживался в душу здешней природы. А Наташа с Володей видели все это впервые и сразу в такой дозе!
Но вот и для меня появилось нечто новое. Это было первое, что несколько оживило угрюмого и неразговорчивого Сашу. Он начал читать следы на тропе, там, где мы еще ничего не различали.
— Вот олень шел... Кабан рыл... Медведь грыз...
Вскоре мы поняли, что тропы глубин заповедника буквально испещрены следами зверей, и сами научились читать эту письменность. Не только наши желания, казалось, сам воздух наполнился ожиданием встречи с дикими животными. Мы чувствовали, что все это безмолвие живет, что за всеми деревьями притаились следящие за нами четвероногие обитатели дебрей...
Саша показывает нам барсучьи следы и удивляет сообщением о том, что мясо у барсука съедобное и даже вкусное. Рассказывает об охоте на куниц при помощи ловушек (я такие видел на Лашипсе), причем непринужденно хвастается, что сам браконьерствовал в заповеднике. Странное создание.
Впрочем, видимо, браконьерство и воспитало в нем зоркость следопыта. Ему доводилось сваливать десятипудовых кабанов. Для нас было новостью, что спереди туловище кабана защищено как бы подкожным панцирем. Саша называл такой панцирь «калканом». По его словам, этот калкан защищает грудь зверя от самых острых клыков соперника. Старых кабанов юноша называл «секачами», «одинцами». Все это напоминало книги Арсеньева и Сетон-Томпсона...
Особенно охотно Саша говорил о медведях, о том, что они добрые и не трогают людей, что их не боятся даже серны — так и пасутся рядом на лугу. Бывает, что медведь залезает на дерево стряхивать груши, а кабаны тут как тут — сбегаются воспользоваться его любезностью и подбирают упавшие фрукты.
...Лес сменился альпикой. Сочные молодые луга занимали весь округлый верх Пастбища Абаго. Называю друзьям новые для них цветы — примулы, эритрониумы, рябчики... С первого же холма открылся неохватный кругозор.
Подобная Чугушу, видному с Ачишхо, здесь вставала перед глазами огромная обрывисто снежная Тыбга. От нас ее отделяла глубокая лесистая долина Малчепы. Для меня эта долина опять-таки была лишь вариантом виденной с Ачишхо: Малчепа здесь «исполняла обязанности» Ачипсе.
Малчепа... Когда-то ее долину называли «царством зубров». В ней этих древних быков водилось особенно много. Во всем теперешнем заповеднике их насчитывалось свыше тысячи голов. До революции их охраняли для великокняжеских охот, и уже это озлобляло местных охотников. Браконьеры не упускали случая загубить зубра даже тогда, когда им и не удавалось воспользоваться ни шкурой, ни мясом. Охотники рассуждали так: истребим зубров — не будет и запретов на охоту— весь зверь тогда нам достанется...
Не отставали в истреблении зверя и сами «хозяева» заказника. Роскошный том «Кубанская охота» сохранил репродукции старинных фотографий «светлейших» охотников, попирающих ногами туши убитых туров и серн, оленей и зубров.
Правда, и среди этих «хозяев» находились просвещенные головы, ставившие вопрос о более серьезном заповедании западнокавказской природы. Известно, например, письмо[1] великого князя Сергея, владевшего заказником, августейшему брату, числившемуся президентом Академии наук, где Сергей жалуется на то, что был одинок в своих «заботах, попечениях и усилиях» о сохранении кавказского зубра, и говорит о готовности вырабатывать меры по его охране «путем объявления нагорной полосы Кубанской области заповедной». К рассуждениям князя о необходимости обеспечить приоритет русской науки в изучении «кавказского дикого быка» присовокуплялась существенная оговорка: «если на то последует высочайшее государя императора повеление».
Оговорка была не случайна. В царской России даже великокняжеские здравые мысли не гарантировали успеха делу. В 1914 году совет министров Российской империи выразил это ясней ясного: «Охрана редких зоологических пород не отвечает понятию общеполезной государственной меры, ради осуществления которой можно поступиться неприкосновенным вообще правом частной собственности». «Вообще неприкосновенная» в условиях капитализма частная собственность решала дело.
Егеря великокняжеской охоты все же как могли охраняли зубров. Но в годы гражданской войны звери остались без всякой охраны. Их уничтожали и браконьеры-охотники, и скрывавшиеся в лесах бело-зеленые банды. В 1919 году истребителям зубров «помогла» и страшная эпидемия, точнее — эпизоотия, ящура и сибирской язвы.
Охотники из Хамышков, Даховской и Псебая до сих пор хранят в изустных преданиях истории о варварском истреблении зубров своими односельчанами. Они убивали животных в спортивном азарте, оставляя мясо и шкуры волкам. Один житель Даховской имеет на своей совести восемнадцать убитых зубров; его «единомышленник» из Псебая загубил семь стельных самок...
Шел 1920 год, год еще не закончившейся гражданской войны и разрухи. Но даже и в это суровое время находились люди, пекшиеся об охране природы. Краснодарские энтузиасты из музейной секции отдела народного образования во главе с профессором Григором просили свой Кубано-Черноморский революционный комитет обеспечить охрану зубра. И краевой ревком, едва лишь справившийся с белыми армиями Улагая, Шкуро и Фостикова, вынес постановление[2], запрещающее в северной части теперешнего заповедника охоту, рубку леса и рыбную ловлю. Уцелевшее поголовье зубров бралось под особую охрану.
В 1923 году Кубано-Черноморский исполнительный комитет распространил заповедный режим и на южный склон Западного Кавказа. Площадь заповедника достигла 270 тысяч гектаров. Но все эти местные декреты не были подкреплены главным — обеспечением действительной охраны заповедных земель. Декларации не укрощали распоясавшихся браконьеров, а лишь подстегнули их к завершению черного дела.
12 мая 1924 года декретом Совнаркома РСФСР был учрежден Кавказский государственный заповедник. Но самый драгоценный и редкий зверь, которым были горды эти горы,— кавказский зубр — был к этому времени выбит почти поголовно. Не сразу удалось организовать действенную охрану трудноприступных гор. Остатки зубров гибли под снежными завалами в тяжелую зиму 1923 года, от новой эпизоотии, поразившей и домашний скот в 1924 году... 1927 год — мрачная дата уничтожения последнего зубра на Западном Кавказе.
В Гузерипле мы слышали, что зоологи заповедника выдвинули смелый проект восстановления зубрового стада на Кавказе путем завоза сюда гибридных зубробизонок из Аскании-Нова с Украины и чистокровных самцов-зубров, уцелевших в некоторых зоопарках. Зоологи уже через год-два должны были приступить к закладке нового «зубрового парка»... Заповедник стремился вернуть природе ее утраченные богатства[3].
А пока перед нами простиралась огромная лесная долина — Долина зубров, лишенная зубров.
На удобнейшем панорамном пункте, откуда в упор просматривается вся Тыбга, поставлен пустой домик, скорее сарайчик. Это горный приют, лагерь Абаго. Как и в знакомом мне Холодном лагере Псеашхо, внутри никакой мебели, только нары. В полу прорезь для очага, в дождь можно топить по-черному. Но вечер ясный, и мы жжем костерок перед лагерем.
Давно ли, попадая на такие ночлеги, я терялся, не представлял, что надо предпринимать, и замирал в блаженной бездеятельности... А теперь за плечами был уже опыт и пример — как вели себя на ночлегах Лена и Всеволод, сколько полезного успевал сделать Георгиади, как по-домашнему уютно умела обжить любую ночевку Женя... Я уже знал, как это сохраняет и даже восстанавливает силы — а нам теперь предстояли ежедневные, точнее еженощные, «полевые» ночлеги. Из дневных маршрутов и этих ночей должно было складываться нормальное течение жизни, работа в продолжение целого лета в трудном и безлюдном горном районе. Сохранение здоровья, бодрости и полной трудоспособности было одной из наших обязанностей наравне с делами исследовательскими.
Словом, теперь я могу даже задавать тон друзьям: добываю воду, приношу охапку сучьев для костра, устраиваю мягкие ложа на нарах. Но и на спутников не пожалуешься — все делаем быстро, варим вкусный суп и кашу, пьем кофе со сгущенным молоком. И при этом успеваем любоваться сменой лиловатых и розовых закатных красок на снегах и обрывах страшной Тыбги...
Всего одна ночь в этом лагере, и утром мы уходим. А в душе уже ощущение нежности к нему, к нашему первому домику на пути через заповедник...
Тропа выводит нас на самый водораздел, полого округлый гребень Пастбища Абаго.
Идем по гребню с видами по обе стороны хребта. Сам по себе скромный и монотонный, он словно специально воздвигнут на междуречье Малчепы и Безымянной, как помост для зрителей, чтобы радовать их панорамами.
Перед нами пологая пирамида, которую тропа обходит косогором. Раньше ее выразительно называли Абаго-Нос. Кто-то присвоил ей сравнительно безличное имя — гора Экспедиции. Наташа вскрикивает и бежит к появившемуся на склоне этой горы первому на нашем пути снежному пятнышку.
— Куда ты?
— Сейчас, сейчас, я к снежку.
— Опомнись, до него же не меньше двух километров!
Вот так же когда-то и краснолицый побежал за снежком...
Теперь Пастбище Абаго заповедно, а прежде и здесь пасли скот. Об этом напоминают пятна сорняков, сочная ядовитая чемерица, отмечающая места былых балаганов, да и само название этого хребта. Даже наш Саша знает прежние наименования полян. Для него это — Самоваровы балаганы, поляна Горского, Семенов балаган...
Мы с Володей уже начинали спорить об уровнях ледниковых цирков, об их ярусах, о высоте снеговой линии. Наташа потом призналась, что ее пугали наши споры. Девушка захлебывалась первыми впечатлениями от природы в целом и еще не могла совмещать этого упоения с аналитическим взглядом исследователя, с анатомированием деталей.
«Какие цирки? Где они видят ярусы?» — робко думала она про себя, страшась признаться в своей слепоте.
Цирки различать мы умели, а вот зверя... Словом, нам не везло. Заповедные животные дразнили нас обилием следов, но сами нам не попадались. Сколько я ни напрягал зрение, пытаясь разглядеть их издали, хотя бы таких же маленьких, как тогда на Псеашхо, все было напрасно. Не видел их и такой зоркий лесной человек, как Саша. Лишь изредка из-под ног вспархивали и в панике улетали горные тетерева.
Второй день пути. Ликующе цветут весенние луга. Гремят вздувшиеся от усиливающегося таяния снегов реки.
Заповедник поддерживает в хорошем состоянии мосты на тропах. Опередив «караван», перехожу по мосту речку Безымянку. Вступил на доски и вздрогнул: слева от моста прямо в реке, всеми четырьмя копытами в воде, стоит красавец олень. Статный рогач обкусывает прибрежные кусты. Нетерпеливо машу показавшейся вдали Наташе, но олень уже заметил меня и с гордо поднятой головой пошел вброд через самую бурную часть реки. Наташа подбежала, когда он скрывался в кустах. Чувствую себя словно виноватым перед нею — я видел, а она почти нет, говорит, только мелькнуло что-то в кустах, а передо мною он стоял во всей красе — гордое лесное божество...
Значит, все это действительно правда, такими красавцами населен здешний лес, и вот как близко удается их видеть!
На третий день пути Саша обещает показать и показывает нам туров. Он знает, что неподалеку от тропы есть солонец. Так в заповеднике называют не почвы, а выходы минеральных рассолов и соленосных пород.
Копытные любят лизать соль, а с нею, быть может, вводят в свой рацион и какие-нибудь другие нужные организму рассеянные химические элементы. Животные солонцуются, и тут-то их легко подстеречь на близком расстоянии. Мы наблюдаем за табунком туров метров с пятидесяти.
Местами солонцы создают искусственно. «Заряжать» их солью — одна из обязанностей наблюдателей.
Прошли годы, пока я, работая в Поляне, увидел первых туров на Псеашхо. А тут с первых же дней олень, туры — а как же иначе, ведь заповедник!
Дикая баба
Пересекли крупную реку Кишу и вышли на одно из глубинных урочищ заповедника — на Сенную поляну. Здесь когда-то егеря княжеской охоты заготовляли сено для зубров.
У домика Сенного лагеря людно, а нашу вьючную лошадку Машку восторженно приветствует своим ржанием целый табун коней. Здесь сегодня большой день. Сенная поляна — место своеобразных общих собраний работников охраны заповедника. На такие слеты наблюдателей люди сходятся за сотню километров по трудным тропам, через высокие перевалы. Эти люди с винтовками не только караульщики. На них лежат нелегкие обязанности — по пути на слет ремонтировать тропы, распиливать упавшие стволы, чинить мосты...
Клеенчатые тетрадки в их полевых сумках хранили уже немало наблюдений, ценных для науки, регистрацию встреченных следов, поведения и режима питания зверей, фенологию (сроки сезонных событий, происходящих в природе). Ежегодно совершали наблюдатели и труднейшие высокогорные маршруты по учету туров и серн, а осенью по голосам подсчитывали ревущих оленей...
Высота более 1200 метров над морем, но мы сидим на этой поляне, как в глубоком колодце. Его стены — не только стволы пихт, но и высокие крутые хребты. Правее и вниз по Кише — гордая Джуга, вверх по Кише — отроги грозного Джемарука. Прямо над лагерем склон Аспидного хребта, через который мы перевалим завтра. А поляна заросла высокой травой и густым малинником.
Наблюдатели — добрый, хороший народ. Многие уже свыше десяти лет в заповеднике, любят и ценят его природу, знают все тропы и повадки зверя, пешком исходили обширные и труднодоступные территории. Они непременные участники тех экспедиций, которые проводили в заповеднике опытные природоведы. Это была хорошая школа. Наблюдатели многое узнали от ученых и с их помощью стали и сами зоркими пытливыми натуралистами, а не просто «егерями охраны».
На слет собираются не только наблюдатели, но и ученые. Вот молодой зоолог Юра Аверин, сам похожий на статного оленя. А вот знакомый мне по Красной Поляне ботаник Соснин... Вечером у костров звучали рассказы о походах и приключениях, о вечном риске при выслеживании браконьеров, о несчетных встречах со зверьем. Находились и такие рассказчики, которые легко и незаметно переходили с описания реальных фактов к самым озорным фантазиям и легендам.
Одной из таких легенд была история о... Дикой бабе. Притчу эту рассказывали всегда увлеченно, да и как было поначалу не верить таким, например, подробностям:
«В девятьсот двадцать четвертом году, в тот самый год, когда бандиты вот на этом хребте профессора Исаева убили, через заповедник туристы шли. Группа была недружная, ссорились, разбредались, и когда к Красной Поляне подходили, недосчитались одной туристки. Заявили в милицию, с неделю спасательные партии ходили, хотели пропавшую по следам найти, но женщина как провалилась.
Тут уж кто что думал: и что утонула, и что зверь задрал, и что бандиты... А она, видать, жива была, только со страху ума лишилась да и перешла на дикую жизнь. Месяцев через пять мы на обходах стали ее следы замечать. А на Кише даже ее пещерку обнаружили, куда она каштан да орехи запасала. Уж как она зиму переносила — подумать страшно. Потом ее издали и видеть стали, а туристов Дикой бабой пугать.
Туристы, конечно, интересовались, как бы это на нее поглядеть. Ну, а мы — сказку сложили, что она по ночам подбирается к лагерям, где туристы ночуют, да и крадет самых красивых. Ой, смеху было!
А потом стали замечать, что не одна живет Дикая баба: у нее ребенок в лесу народился. Много у нас споров было, как с ней быть. Одни на облаве настаивали, считали, заарестовать надо. Другие вызывались уговорить ее миром — дескать, ради ребенка. Однажды обложили ее, как волка, она на скалу забралась и с ребенком годовалым на руках. Визжит, кричит — не смейте, говорит, меня трогать. Если подойдете — со скалы брошусь. А обрыв глубокий — у Чертовых Ворот это было, взглянуть страшно. Так от нее и оступились. Следить продолжали, начальству докладывали.
Одну зиму на Пшекише прожила, другую на Гефо. Узнала, что мы в лагерях спички сухие оставляем в запас да продуктишки кое-какие, наловчилась выкрадывать, сама костры запаливала — и ничего, аккуратно, всегда за собою потушит, лес не зажгла ни разу. А одну зиму, когда у нее пацаненок родился, так даже и прожила тут в лагере — мы же сюда зимой редко когда заходим».
— Что, в этом самом лагере?
— Ну да, в Сенном. Вот тут для ребенка вроде люльки сделала, а тут сама спала. А вещи у туристов крала. У одних рюкзак со штанами, у других, глядишь, клеенку. Так и оборудовалась. А потом у одной группы палатку стащила — ну, тогда стала совсем как экспедиция, с шиком зажила.
Впечатление о достоверности рассказа так усугублялось реальными названиями и деталями, что и сами наблюдатели, в немалой степени соавторы этой легенды, заслушивались. Искусство рассказать о Дикой бабе как можно правдоподобней, крепче сбить с толку непосвященного новичка и заинтересовать своих же сослуживцев ценилось особенно высоко.
Один из самых опытных наблюдателей, Александр Васильевич Никифоров, ставил сегодня новый рекорд. Общий интерес вызвал тезис о самоснабжении Дикой бабы за счет похищения имущества у туристов — это была при нас рожденная импровизация. Сколько неувязок, сколько несведенных линий сюжета ликвидировалось этим объяснением! Становилось понятно, как она не замерзла, откуда брала спички...
Наш юный диковатый Саша с мрачным видом поднялся от очага и ушел в темноту — очевидно, присмотреть за лошадью. Его нелюдимость уже была предметом шуток со стороны наблюдателей. Шуток не над ним, а над нами. С их точки зрения, дирекция подшутила над молодыми исследователями, дав нам в сопровождение неотесанного лесного парня, когда можно было прикомандировать опытного наблюдателя, знающего заповедник.
Работники охраны любили работать с учеными, ценили творческий и бескорыстный характер их деятельности, по-дружески делили с ними лишения, выручали из беды. Конечно, они могли бы помочь и нашей молодой группе. Но ведь для дирекции мы были только студенты-практиканты — вот и пожалели для нас опытного человека.
Словом, шутки над нами и над нашим Сашей имели под собою нешуточную основу...
Сегодня Никифоров превзошел самого себя. Он заключил легенду о Дикой бабе неожиданным для всех присутствующих аккордом. Он спросил:
— А знаете, кто у вас проводником при лошади?
— Ну как же, наш Саша.
— Так вот, этот ваш Саша и есть Дикой бабы сын.
Вся аудитория легла от хохота. Конечно, именно в этот момент Саша, вынырнув из тьмы, появился перед собравшимися, вызвав новый приступ веселья. Нам стало даже неловко за незаслуженно осмеянного парня.
— Ничего, вот поработает с нами, — говорю я, — научим его про вас сказки рассказывать — тогда держитесь!
И все-таки ловлю себя на том, что мысленно всерьез занимаюсь опровержением высказанной подробности Сашиной родословной. Если он родился в двадцать пятом году, ему было бы только двенадцать лет, а не семнадцать, как в действительности... Так убедительно было повествование.
«Дикая баба» прочно вошла в наш быт. Наташа пугала нас с Володей призраком этой женщины, ей приписывались разные мелкие потери.
В лице Дикой бабы мы получили как бы свою местную богиню и сами стали воспринимать ее как естественное дополнение к окружающей заповедной фауне. Мы уже поняли, что при Саше о Дикой бабе говорить не стоило: видимо, ему рассказали о причине всеобщего хохота, и он мрачнел при одном упоминании об этой особе.
Нам доводилось слышать потом и другие версии о Дикой бабе и ее судьбе. Были в разной степени талантливые варианты с историко-политическим оттенком — что это дочь белогвардейского полковника, скрывавшегося в лесах с дней гражданской войны; варианты «Тарзана в юбке» — девушки, дружной со зверями, доившей серн и оленьих ланок; были версии о ее гибели и, напротив, в ряде случаев утверждалось продолжение ее существования...
Столь оригинальный фольклор только и мог возникнуть на почве безлюдья и дикости огромных пространств заповедника. Так легко было мысленно населить эти территории неуловимыми существами, загадочными людьми...
Наш олень
Мы покидали Сенной лагерь, когда слет наблюдателей начинал свою работу. Теперь они обсуждали уже не вечерние сказки о Дикой бабе, а свои трудовые будни, задания по учету туров и оленей, трудности расчистки старых и прокладки новых троп, ремонт помещений кордонов, закладку искусственных солонцов для минеральной подкормки животных и, наконец, самую опасную часть своей работы — борьбу с браконьерами.
Прощаемся. Теперь на любом заповедном кордоне нас встретят как знакомых!
Крутой подъем пихтовым лесом и криволесьем приводит нас к лагерю Исаева. Луговой балкон над кручами в раме пихтовых лесов. К самому домику лагеря подбегает веселое березовое криволесье. Бушуют луговые цветы — они празднуют здесь, как и на Пастбище Абаго, разгар весны.
Новые захватывающие горизонты. Через огромную глубокую долину Киши нам с высоты двух километров виден мрачный серо-коричневый Джемарук — промежуточное звено между Тыбгой и нашим краснополянским Чугушом. Как круты изборожденные кулуарами стены этого Джемарука! На них задержалось так мало снегу, когда кругом все горы еще блещут целыми полотнищами снежных полей.
В дальней дали, где-то за долиной Малчепы и верховьями реки Белой, парят в дымке розоватые призраки Фишт-Оштенского массива. Нам видно, как поднимается к ним задранный вверх обрывистый край Скалистой куэсты.
Глубоко, почти на километр под ногами, дно долины Киши. Там Сенная поляна, там совещаются наблюдатели. А нам сверху так хорошо видна вся их могучая держава...
Еще не так давно эту вознесенную над заповедником поляну называли Зубровой. Наш Саша упорно утверждает, что мы идем не к лагерю Исаева, а на Бандитскую поляну. Нам понятно, почему так приросло это черное имя к столь райскому уголку — я еще в Красной Поляне слышал трагическую историю гибели профессора Исаева в районе этого лагеря. Интересно, а что знает об этом Саша? Он угрюмо повествует:
— У нас в Хамышках так говорят: ходил тут профессор, траву изучал. Гордый был, одиночкой ходил. А наши тут рядом в другом балагане сидели.
— Постой-ка, какие наши?
— Бандиты. Наши, хамышкинские.
Растроганные столь наивно раскрываемым родством душ, слушаем внимательнее — мы-то и не знаем, с кем имеем дело.
— Порешили они его словить — зачем один ходит. Ну, и словили и суд над ним устроили.
— За что же суд?
— За то, что ученый. Говорили, не было бы ученых — не было бы и войны и заповедника не было бы.
— Вот оно что! И к чему же его присудили?
— Присудили убить. Привязали к лошадиным хвостам и погнали.
— Кого погнали?
— Лошадей. Так всего и побили. Так что его я тела не нашли. Говорят, одну книжку записную потом обнаружили,
В голосе Саши не промелькнуло ни нотки сожаления или осуждения по поводу случившегося. Кто его ведает, может быть, и он воспитан был в такой же вере, а теперь сам вынужден помогать ученым!
— А откуда же ты это знаешь, Саша?
— Наши рассказывали. Один из тех бандитов мой дядя был.
Саша и это произнес без капли смущения. Родства с Дикой бабой стесняется, а о родстве с убийцами говорит чуть не с гордостью. Дремучие же тут можно встретить души людские, тоже чем тебе не зубры!.. Сашин рассказ звучал тем убедительнее, что в основе совпадал с официальной версией о гибели Исаева.
Поднимаемся по косогору горы Аспидной к Аспидному перевалу. Между полосами рододендронов спускаются ленты снегов — они лежат вдоль каждой лощины, по путям зимне-весенних лавин. Чтобы провести нашу Машку по этим крутонаклонным снежникам, долбим в них топориками карнизные уступы — ведь мы идем первыми в этом сезоне, в июне. В одном месте поленились, и Саша решил пройти с лошадью прямо по снежной целине. Легкомыслие было немедленно наказано.
На крутом снежнике копыта стали скользить, ноги разъезжаться. Вьюки закачались, лишили животное равновесия, лошадь упала и поехала. Затрещали веревки, из мешка вывалился и поскакал мячом вниз по рододендронам один из рюкзаков. Хорошо, что снежник в этом месте был неширок. Через несколько секунд Машка застряла, упершись брюхом в первый крупный куст.
Освобождаем ее от вьюка, ослабляем седловку. Лошадь в отчаянии косит глазом, храпит, бьется. Сашка грубо орет на нее и с силой тащит под уздцы, заставляя подняться. Ноги целы, только на боку заметная ссадина. За ускакавшим рюкзаком пришлось спускаться по кустам на добрую сотню метров вниз — он застрял в криволесье. Лошадь снова навьючили и пошли к перевалу, теперь уже всюду тщательно прорубая ступеньки.
Цепко впившаяся в скалистые склоны сеть рододендроновых стеблей. Узкие струи водопадов. Первые для Наташи облака, которые можно потрогать.
С Аспидного перевала спустились в долину уже родного мне Уруштена. Позади остались еще десятки удивительных видов, долин, ручьев, высокотравных полян. Но что-то изменилось в пейзаже — он стал суровее. Исчезли вечнозеленые кустарники, чаще стали попадаться ели и сосны. Получалось, будто Аспидный хребет, вытянутый по меридиану, отделял не запад от востока, а юг от севера. Сосны на склонах, на островах между протоками Уруштена. Аромат сосновой хвои и смол...
Пожалуй, это не случайно. К западу от Аспидного хребта еще чувствуется дыхание южной природы с ее вечнозеленым подлеском, той самой, что проникла в бассейн реки Белой через «Колхидские ворота» под Чугушом. Аспидный же хребет для этой природы непреодолим. Вот почему в бассейне реки Лабы, а именно к нему принадлежит Уруштен, господствуют уже типы ландшафта, «нормальные» для северного склона Кавказа.
Все угрюмее долина. Лес уступил место криволесыо. А вот и вовсе оголенные склоны — здесь даже криволесье сметено всё опустошающими лавинами. Тропу преграждали вывернутые с корнями кривые буки и клены, снесенные со снегом и вытаявшие из лавинных выносов. Чем выше мы поднимались, тем чаще тропа на целые километры исчезала под навалами недотаявшего снега, и идти приходилось по его грязной ребристо-щебнистой поверхности. Снег перекрывал все днище долины, так что и сама река Уруштен исчезала под ним, пробивая себе неведомые траншеи.
Как странны были входы в такие туннели! Они походили на широко распахнутые гроты с причудливо лепными потолками, словно состоящими из пчелиных сот. Ячейки разделялись выступающими ледяными гребешками. Как такие гребешки образовались?

Снег в лавинном выносе неоднороден. Это не только снежная пыль, но и масса слипшихся, смерзшихся снежных глыб и комьев. Плоскости смерзания этих глыб пронизывают все тело лавинного выноса как бы сетью оледеневших перегородок. Ребра этих перегородок тают медленнее, чем снег комьев, вот и вытаивают в виде сети гребешков. Отсюда и мозаичный вид лепки туннельных потолков.
Осторожно преодолеваем завалы. Как знать, где под этой многометровой толщей снега прячется река и не провалится ли под нами свод туннеля? Такие провалы мы уже видим: черные колодцы среди снега.
Лавинное царство. Какой же артиллерийский грохот стоял здесь, когда массы снега рушились в Уруштен! Заодно воображаю, каково было проходить здесь Мало-Лабинскому отряду генерала Граббе. Ведь именно здесь он первым пробивался к Красной Поляне — Кбаадэ в 1864 году, и было это совсем ранней для таких высот весной — в мае.
Володя с Сашей и лошадь с вьюком почему-то отстали. Иду впереди, торопясь скорее выйти к Холодному лагерю, к первому совсем знакомому месту на этом маршруте.
Еще один бугор... Сейчас я увижу площадку лагеря... Взглядываю и инстинктивно приседаю, прячусь. Наташа подбегает пригнувшись, и мы не дыша выглядываем из-за пригорка.
Перед нами на фоне оранжевого закатного неба, как статуя, красуется великолепный олень. Он стоит, гордый и трепетный, на лужайке среди снежных пятен. Стоит как хозяин, как властелин. В талых лужицах у его копыт отражаются отсветы зари. Он уже почуял шум или запах и встревоженно смотрит в нашу сторону.
Как хочется поделиться друг с другом радостью, а надо молчать. Зато руки встретились, и их пожатие было как поздравление, как взаимная благодарность... Наш олень!
Он недовольно топает копытом, разбрызгивая оранжевую лужицу, своенравно закидывает голову и делает несколько прыжков. Еще раз всматривается в нашу сторону и, уверившись, что тут не все благополучно, с достоинством уходит в криволесье.
Видение исчезло.
Пять медведей
Нас предупреждали, что Холодный лагерь сожжен туристами, не потушившими очага при уходе. Поэтому сегодня первый раз ставим свою палатку.
Любуемся световыми чудесами псеашхинского заката. Куполовидный снежничек на гребне трапеции меркнет последним и, наверное, первым загорится завтра в утреннем свете солнца.
Вечер в палатке. Погашена свечка. Мы забрались в свои одеяла-мешки. Мирно посапывать через минуту после того, как лег, начал один Саша. Мы с Наташей вспоминаем оленя, а Володя — спугнутого им в этот же день кабана...
Окружающий нас мир и ночью полон голосами живых существ. Отчетливо, с подвыванием кричит сова. Раздается визгливо отрывистый речитатив еще какой-то птицы. Совсем рядом за стенкой палатки попискивают мыши.
Что-то шуршит в кустах и в подступающей ко входу в палатку траве. Кажется, мы различаем даже дыхание и почавкивание навестившего нас существа. Кто это? Барсук? Куница?
Володе надоело прислушиваться, и он неожиданно громко шипит и фыркает. Сразу слышим, что неведомый гость шмыгнул в кусты.
Наташа обиженно шепчет:
— Володька, зачем ты его? Добрый теплый зверик, пусть бы к нам в палатку залез. Он бы понял, что мы его не тронем, приласкался бы...
Володя ворчливо басит:
— Ну его. Блох напустит.
...Хорошо просыпаться в палатке под отяжелевшей от росы крышей, выскакивать в обжигающую свежесть утра, умываться ледяным хрусталем, раздувать уцелевшие в золе угольки от вчерашнего костра.
Помогаем Саше навьючить лошадь. Перед нами спуск к кладке через речку Холодную. Вдруг Володя тихо и коротко вскрикивает:
— Тише, медведи!
Глядим прямо с места ночлега через долину. До ее противоположного склона метров двести. Там луга чередуются с криволесьем, а по лощинкам еще лежат полосы недотаявшего снега.
— Вон, вон, смотрите, на снегу!
Вниз по снегу катятся два темных мячика, вылетают на траву и превращаются в бурые пятнышки. Они поднимаются вверх по траве вдоль края снега метров на двенадцать, затем переходят на снег и вновь катятся вниз. Наташа уже поймала их в бинокль и шепчет нам:
— Это медвежата. Они катаются по снегу с горки, как ребятишки!
Впиваюсь в бинокль — действительно, два медвежонка лихо катятся по снегу, вылетают внизу на траву, с разгону перекувыркиваются, отряхиваются, а потом с деловитым видом лезут по траве вверх, переваливаясь на всех четырех.
Так, так, милые! Люби кататься, люби и саночки возить!
Саша раньше нас понимает, что неподалеку от медвежат должна быть и мать, шарит глазами и говорит:
— А вон и маманька!
Правее метрах в пятидесяти в кустах замечаем более крупного зверя. Он шевелится и... Да это же не один, это сразу два медведя рядом. Тут маманька с папанькой!
Когда Наташа рассмотрела под соседним кустом еще одного, видимо, более пожилого медведя (дедушку или бабушку?), мы просто не верили своим глазам. В какое же звериное царство мы попали, если можем прямо с места своего ночлега видеть одновременно пять медведей! Нам не поверят, когда мы об этом будем рассказывать, скажут — преувеличиваем.
Нет, не хвастался краевед Старк, встречавший в восьмидесятых годах на Псеашхо (в Озерной долине Дзитаку) одновременно до двенадцати медведей. Правду рассказывал и Ян Нахкур, убивавший в день до девяти мишек.
Достаточно полгода не ходить по тропе, и вот как перестают звери ее бояться. Это на самой торной, на главной трассе заповедника! На участке, где я уже столько раз ночевал, не подозревая, что совсем близко могут жить звери!
Саша оглядывается, смотрит на лугово-скальный склон хребта Дзитаку, видный прямо над лагерем, и меланхолически заявляет:
— А вон туры...
— Что? Еще и туры?
Бинокль помогает рассмотреть целый табунок туров — мы насчитываем пятнадцать светло-бурых пятнышек, ползающих по зеленому склону, точно тля.
Саша добавляет:
— Я их еще вчера видал.
— Что же ты ничего нам не сказал?
— А чего интересного, когда так далеко?
— Чудак, ты нам всегда говори, когда зверя заметишь. А почему ты думаешь, что это они же?
— А они завсегда здесь. И куда они денутся, им тут пастись и пастись.
И верно, ведь перед нами огромный склон, покрытый лугами. Зачем и куда переселяться этому табуну? Значит, и в прошлые свои посещения Холодного лагеря я мог бы видеть этих туров. Они всегда тут!
Нам пора, а наша тропа идет прямо в царство медведей. Не ждать же, пока медвежатам надоест кататься. Кстати, нас, если считать лошадь, пятеро, как и медведей. Саша берет под уздцы навьюченную Машку, и мы начинаем спускаться. Лошадь еще не догадывается об их присутствии, а медведи уже замечают нашу процессию. Первыми бросаются в кусты два взрослых. Потом один из них — вероятно, мать — выбегает и, видимо, пугает на своем языке детишек. Они мячиками последний раз скатываются по снегу и молниеносно ушмыгивают в кусты. Последним поднимается старший, обеспокоенно тычется вправо, влево, а потом, тряхнув всей тушей вбок, тоже скрывается в чаще.
Дорога свободна. Перейдя речку по кладке и перегнав Машку вброд, идем тропой, на которой только что бродили медведи. Они, наверное, уже остановились неподалеку и прислушиваются, куда мы двинемся...
Дважды обезглавленная
Перевал Псеашхо. Теперь уже глазами будущего специалиста и исследователя смотрю я на его рельеф, озадачивший еще Торнау.
Помню, как я и сам дважды ошибался, отыскивая перевальную точку. Ведь это не седловина на гребне, а единая поперечная долина, глубоко врезанная во всю ширину хребта... Еще до поступления в университет я вычитал в трудах геоморфолога Рейнгарда, что это перевал долинного типа и что по всей долине, и выше и ниже перевала, тек ледник, впоследствии исчезнувший. А снега, питавшие Прауруштенский ледник, лежали гораздо южнее, в цирке теперешних верховьев речки Бзерпи.
Идем и четверть века спустя после экспедиции Рейнгарда чувствуем себя его учениками. Да, все выглядит именно так, как он говорил. Конечно, вся перевальная долина Псеашхо, весь этот долинный перевал — единый ледниковый трог, то есть корытообразная долина, словно запечатлевшая своей формой очертания массы некогда залегавшего в ней льда. Напоминаю спутникам, что, по мнению Рейнгарда, речки Пслух и Бзерпи, когда ледник исчез, в два приема перехватили верховья у Прауруштенской долины. Первым подобрался сюда отвершками оврагов в своих истоках Пслух. Он вгрызся сбоку в борт, а потом и в дно широкого древнеледникового дола и перехватил у верховьев Прауруштена их воду, заставив ее стекать в свое нижележащее, более глубокое и крутосклонное ущелье. Потом аналогичным образом часть вод древнего Пслуха украла своими истоками речка Бзерпи.
Мы знали уже из геоморфологии о таких «кражах» воды одной рекой у другой — о так называемых речных перехватах. При этом между двумя реками, обезглавленной и обезглавившей, остается обычно участок широкой древней долины, вообще лишенный водотока,— его называют мертвой долиной. На этот-то участок мертвой долины и переместился главный водораздел Кавказа в результате «ограбления» Прауруштена Пслухом. Раньше этот водораздел проходил по Бзерпинскому хребту.
Мысленно я уже рассказывал туристам совсем по-новому о рельефе перевальной долины, видя ее глазами ученого. Как интересно это звучало: «Перевал Псеашхо расположен на дне мертвой долины...»
Стоило попасть в знакомые места, и я снова почувствовал себя экскурсоводом: показываю Володе с Наташей суровое луговое озеро в одном из верховьев Уруштена, заинтриговываю отысканием перевальной точки, обещаю вид на оба Псеашхо при взгляде вниз по Пслуху.
Однако сам смотрю в долину Пслуха не без смущения. Получается, что Рейнгард не во всем прав. Если бы перехват произошел здесь недавно, уже после оледенения, то в Прауруштенскую долину врезалась бы наподобие оврага чисто эрозионная крутостенная долина Пслуха. Однако уклон к Пслуху имеет не только узкая, прорытая речкой рытвина, но и расширяющаяся над ней, как корыто с округлым дном, древняя долина, на вид тоже древнеледниковая, троговая. Не сложнее ли тут картина?
— Что-то у меня получается не по Рейнгарду. Перехват произошел раньше последнего оледенения.
— Из чего ты это вывел?
— Прауруштенский ледник существовал и после того, как произошел перехват. Смотрите, от него и в сторону Пслуха явно ответвляется язык переметного типа, превращая и ее в небольшой трог! Иначе говоря, Пслух «воровал» у Прауруштена не только воду, но и лед.
Чувствую, что не вполне убеждаю друзей. Наверное, это потому, что они еще не видели современных переметных ледников. Не мудрено, что им трудно вообразить, каким был облик исчезнувшего двуязычного/ледника. А у меня в памяти Скальный Замок, обнятый переметным ледником, словно песцовым боа, вот и легко вообразить, как разветвлялись былые потоки льда.
Подходим к Бзерпи — здесь еще один перехват, и о нем писал Рейнгард. Да, он прав. Бзерпи тоже украла своими истоками верховья Прауруштенской долины, причем, видимо, сделала это позже, чем Пслух. Она присваивала себе уже воды, стремившиеся к Пслуху. Крутизна падения ложа бзерпинских оврагов — явный показатель молодости перехвата.
Но подхожу и еще раз удивляюсь: молодые овраги Бзерпи, как и у Пслуха, врезаны в более широкую троговую долину, наклоненную к Бзерпи. Значит, и сюда перекидывал свою «ногу», еще одну переметную ветвь, Прауруштенский ледник! Три, а не два ледяных языка спускались из Бзерпинского цирка в долины, направленные совсем в разные стороны.
На сей раз я в своих геоморфологических интересах оказываюсь одиноким. Наташа и Володя уже метров за сто почувствовали, что с обрывов Бзерпи перед ними развернется южная покатость Кавказа (ведь вдоль по Пслуху было видно лишь одно узкое ущелье). Они бегут к обрыву и цепенеют. Знакомая мне панорама — для них нежданная, оглушающая, превосходящая все, что было видено за несколько дней пути по заповеднику...
Южный склон Кавказа лежал перед нами, простершийся на десятки километров вплоть до туманной голубизны Черного моря, манящий, волнующий.
Здесь открывалась не только даль пространства, но и даль времени. Это было наше предстоящее лето, а может быть, и не одно лето...
— Видите крохотные белые пятнышки. Это и есть Красная Поляна!
— Как я хочу туда! — вырывается у Наташи.
Перешагиваем ручеек Бзерпи и движемся Бзерпинским карнизом к кругозору над Псекохо. Тропа в десятках мест пересечена круто падающими снежниками, залегающими в каждой прорезающей склон лощине. Лошадь пробует копытом снег и мудро отказывается на него ступать. Падать здесь пришлось бы неизмеримо дальше и круче, чем на подъеме к Аспидному перевалу.
Вооружаемся топориками и прорубаем в каждом снежнике карнизную тропку. И не только в снежниках. На обтаявших участках тропа местами совершенно оплыла, здесь нужны земляные и даже маленькие скальные работы. Возимся не один час, опять чувствуя, что мы проходим этой тропой первыми в сезоне. Это в конце июня-то! Еще раз оцениваю трудности, с которыми столкнулись русские войска, пробиравшиеся тут на поляну Кбаадэ в двадцатых числах мая, если считать по новому стилю.
Невольно вспоминаю слова Торнау об этом карнизе:
«Приняв направление на север, наша дорога обходила эту пропасть по тесной тропинке, лепившейся карнизом вдоль отвесной стены. Огромные камни, через которые мы пересаживали лошадей на руках, загораживали нам путь, и без того чрезвычайно трудный по множеству излучин. После неимоверных усилий мы добрались с лошадьми до лесистого гребня, с которого нам следовало опуститься в селение Ачипсоу, лежащее в ущельях Мзымты и впадающей в нее реки Зикуой»[4].
Через несколько часов мы уже входим в Поляну. С радостью чувствую, что она нравится друзьям.
Останавливаемся не на турбазе — ведь мы теперь работники заповедника, и нашей базой будет его Южный отдел. Уютные домики в тенистом экзотическом лесопарке. Сюда я прежде ходил оформлять пропуска в заповедник да консультироваться у ботаников Лесной опытной станции. Теперь мы сами становимся исследователями.
Мы пересекли заповедник. Как понятно нам теперь истинное величие этой изумительной заколдованной страны...
Кто архитектор этой высоты?
Кто простынями постелил пласты?
Кто их покой нарушил, смяв и вздыбив?
Кто плел узор лощин, пазов и вгибов,
Избороздивших скаты пирамид?
Чьему искусству гимн река гремит?
В стране горных озер
Ачишхо по-новому
Маршрут через заповедник для нас был лишь «транзитным» — на этом пути мы еще ничего не исследовали, а только двигались к району своих работ.
Но вот и Красная Поляна. Два дня хлопот: закупаем продукты, упаковываем их во вьюки. Саша оказался вполне стихийной личностью и исчез, получив первую зарплату. Наняли на его место давно известного мне двадцатилетнего грека Юру Георгиади.
С грустью узнаю, что на турбазе нет больше Энгеля. Его почему-то перевели в Сочи, где дни старика проходили в организационной суете, а знания краснополянского района оставались неиспользованными. Не было на базе и Жени.
Почему в штатах туристской системы фигурируют должности «заведующий», «методист», но нет должности «краевед»? Было бы ясно, что краеведы не подлежат переброскам по ведомственным соображениям. Ведь, переехав в другое место, краевед лишается своего главного капитала — своего родства с краем, своей связи с ним!
На базе новые люди, неуверенно и на ощупь изучающие район. Хорошо еще, что в туркабинете сохранились наши старые кроки...
Не удерживаюсь и в первые же вечера выступаю перед туристами с краеведческими лекциями... Хочется как можно больше своих знаний передать новым хозяевам базы.
Но турбаза, лекции — это повторение пройденного. А мы приехали исследовать, нам пора начинать.
Впервые идем на Ачишхо с вьючной лошадью и с палаткой. Во время привалов «пасемся» на россыпях сладкой черешни, устилающих землю. Ее искрасна-черные ягоды привлекают не только нас. Рядом с тропой черешню пожирают черномазые свиньи — сквозь чавканье слышен хруст разгрызаемых косточек.
Жадно рассказываю друзьям обо всем, что знаю, и снова ловлю себя: «экскурсоводского пыла» у меня хватит на все лето, а ведь сейчас важнее заняться собственными наблюдениями, измерениями, записями.
Сосновая скала... Как легко было заливаться перед туристами: «Величественный утес. С его сухостью мирятся только сосны». Но теперь нам мало того, что это «величественный утес». Как будущие геоморфологи, мы обязаны понять его происхождение: воздвигнут ли он какими-то подземными силами или, напротив, уцелел от разрушения при размыве еще более крупного хребта?
Простые однобоко асимметричные гряды-куэсты кончились еще на севере у Даховской. Толщи, которыми напластованы краснополянские недра, перемяты, сплющены в сложнейшие складки, а уклоны и простирания[5] пластов изменяются на каждом шагу. Обнаженность недр ничтожная, всюду густой лес, кустарник, почвенный покров на плаще щебнистого мелкозема. Подчас трудно опознать даже то, что уже до нас изучено видным кавказским геологом Робинсоном.
На множестве краснополянских троп под ногами хрустит черная пластинчатая щебенка. Это те самые сланцы, которые у устья Ачипсе разрабатываются как кровельные! Сланцы слежались из глин, плохо пропускают воду — значит, большая часть дождевых вод стекает по сланцевым склонам, не просачиваясь в недра. К тому же сланцы, как они ни тверды, слабее противостоят размыву, чем мраморы Псеашхо иди граниты Кардывача. Не потому ли именно к полосе сланцев приурочены наиболее широкие долины низовьев Ачипсе, верховьев Мзымты, Аватхары? И не потому ли здесь чаще встречаются пологие склоны и смягченные плавные формы рельефа?
На геологической карте у Робинсона среди юрских сланцев на Ачишхо показаны полосы с отличительной штриховкой. Это толща древних вулканических напластований, несколько более молодого, чем сланцы, возраста. Порфириты, туфы — следы давно минувшей вулканической деятельности.
Самих вулканов давно нет, от них не осталось и следа. А извергнутые ими толщи, погребенные осадками более поздних морей и вместе с ними смятые в складки, уцелели, были подняты, вскрыты размывом. Порфириты упорнее, чем сланцы, сопротивляются размыву. Не их ли стойкости обязан своим существованием и этот уцелевший утес Сосновой скалы?
А каждый из больших зубцов Ачишхо? Не выкроены ли они из пачек пластов той же туфогенной и порфиритовой серии? И каждая седловина между зубцами только потому оказалась ниже своих стойких соседей, что она сложена податливыми черными сланцами, защемленными в складках меж порфиритов.
Чтобы суметь ответить на эти вопросы, надо побывать на каждой седловине и на каждой вершине, отколоть геологические образцы, сопоставить условия залегания и стойкость пластов, построить профили рельефа с разрезами недр... Сумеем ли, хватит ли у нас сил и знаний?
Долина Бешенки... Рейнгард думал, что ее выпахал ледник, и считал ее подобной Псеашхинскому трогу. Приходится брать на веру. Возможно, что в рыхлых галечных толщах, выстилающих долину Бешенки, где-нибудь и залегает отложенная ледником морена. Но средств вести бурение у нас нет.
К тому же Рейнгард был тут в период строительства Романовска, и улицы тогда изобиловали рытвинами, карьерами, выемками для фундаментов зданий, то есть, если говорить языком геолога, обнажениями горных пород. А теперь всюду зеленеют сады, площадки выровнены и обнажений почти нет. В обрезе плато, обращенном к Мзымте, видны типичные речные наносы из скатанных кругляков и мешанина из щебня, гальки и мелкозема. Такую толщу нет оснований считать мореной — ее вполне могли отложить и грязекаменные потоки после любого крепкого ливня! Да и верхний конец долины здесь не похож на древнеледниковый амфитеатр. Вот разве полянка с камнем напоминает уцелевший кусок дна древнего цирка?
Новые свидания со старыми друзьями. Но как по-иному смотрю я теперь на субальпийские поляны и на лес «с лебедиными шеями».
Опознаю проявления то одних, то других рельефообразующих процессов, навешиваю, словно ярлыки, ученые термины на то, что раньше меня лишь восхищало.
Наша палатка поставлена у метеостанции, среди белого кипения цветущих рододендронов. Совсем недавно для меня было редким чудом провести ночь в горах. А теперь нам предстоят только высокогорные ночи, нашими становятся все закаты и восходы, все симфонии звездного неба. Настоящие жители гор, длительно обитающие на высях по долгу своей работы, насколько богаче и счастливее мы теперь будем, чем любые туристы!
Но радость совсем не единственное чувство, испытываемое нами. Все сильнее ощущаем и неуверенность в своих силах и просто тревогу. С чего начинать?
Мне пока ясно одно: надо провести глазомерную съемку всего пригребневого района Ачишхо. Озерные площадки у метеостанции созданы и сглажены древними ледниками. Бугры между озерцами — вероятно, морена или бараньи лбы... А крутые склоны, обрубающие каждую площадку со стороны Ачипсе и Бешенки? Здесь действуют какие-то новые, более поздние, современные силы, обрезающие древний ледниковый рельеф, так что от него остались лишь эти скромные пригребневые площадки.
Перед нами были явные следы сочетания двух рельефообразующих процессов, формы двух возрастов. Многочисленные озера создавали своеобразный, отличный от всех виденных нами ландшафт. Должны же мы что-то написать в своем ответе об этом пригребневом озерном ландшафте Ачишхо? Существующие карты были слишком мелки, чтобы по ним можно было хотя бы пересчитать ачишхинские озерца.
Сказано — сделано, и вот мы уже за работой, с планшетами для глазомерной съемки. Их легко ориентировать по сторонам света — к каждому фанерному планшетику мы еще в Москве напрочно прикрепили по компасу. На кнопках держатся листочки миллиметровки. Часть озер обмеряли рулетками. С озерцами дальних полян насчитали восемнадцать бассейнов в разных стадиях заболачивания.
Мои компаньоны работали с самозабвенным усердием. Володя был вполне удовлетворен самой сутью работы — точно измерять, добросовестно записывать было его страстью. А Наташа еще не задумывалась над конечной целью измерений и только радовалась, что съемка ведется словно в полете — на гребне высокого хребта, над глубокими долинами, над дальними далями.
Быть может, для студенческой курсовой работы было достаточно «насытить ученостью» и уже добытый материал?
Но ведь это была бы лишь инвентаризация фактов. А мы должны отобразить на карте выявленные нами различия в происхождении разных форм поверхности.
Вероятно, именно потому, что не первый раз вижу этот рельеф и успел раньше немало подумать о нем, я оказываюсь беспокойнее обоих коллег и допекаю их вопросами.
— Съемка съемкой, озер могло оказаться и восемнадцать, и сто восемнадцать, а вот как они возникли, мне все-таки не ясно.
— Так ты же сам говорил, что считаешь их ледниковыми цирками?
— Да, на днища цирков их впадинки очень похожи. И там, где озера подпружены моренными валиками, сомнений нет: и чаши и подпруды созданы древними ледниками.
— А разве есть где-нибудь иной случай?
— Напоминаю об озерце № 13 у тропы. Ведь его со всех сторон окружают коренные склоны.
— Ну и что же?
— А то, что, значит, была какая-то причина, переуглубившая озерную ванну, врывшая ее в коренной скальный фундамент гребня. На округлом гребне этой части Ачишхо могли лежать лишь ничтожные малоподвижные фирны. Где им было выпахивать и переуглублять скалы?
Еще раз отправляемся к озеру № 13, внимательно изучаем прилегающие к нему склоны. И вдруг находим — или пока еще нам кажется, что находим, — путь к разгадке.
К озерцу примыкает расщелина, открытая в сторону подкравшихся сюда верховьев большой лощины. Борта озерной ванночки образованы стоящими почти на ребре пластами. Дождевые воды, скапливаясь меж бортами, нащупали себе подземный выход по трещине в сторону внешнего склона хребта, к этой самой расщелине. Не произошел ли по трещине «подкоп» подземных вод под гребневое плато? Как похоже, что такой подмыв (суффозия) оказался виновником первичного проседания озерной ванночки между скальными ребрами гребня. А древний ледник только обработал, огладил эту гребневую просадку...
Маленькая находка, маленькая догадка. Она еще далеко не все объясняет. Но мы чувствуем, что с ее помощью начинаем верно и последовательно мыслить, сознательно искать первопричины явлений.
...Вечер в палатке при трепетном свете свечек. Полулежа камеральничаем (так называется обработка накопленных за день записей, вычерчивание схем по полученным цифрам, упаковка и систематизация образцов).
Беру желтый карандаш и начинаю закрашивать все пологие древнеледниковые озерные котловины гребня Ачишхо. Потом берусь за коричневый — крашу им все склоны, не несущие отпечатков ледникового воздействия, а красным «врезаю» молодые рытвины горных ручьев. Карта становится красивой, пестрой, как цыганский платок, и... невыразительной. Рельеф на ней получил объяснение, но утратил свои геометрические черты — все заслонила пестрая мозаика... А как быть, если одна форма наложилась на другую, один — последующий — процесс на другой — предыдущий?
Вот склон долины Ачипсе. Долину в целом прорыла река, но эту часть склона давно уже обрабатывает плоскостной смыв — плащеобразный склоновый сток дождевых струй. В какой же цвет закрасить такой скат на карте? И каким знаком выразить ванночки пригребневых ачишхинских озёрец, прежде всего ту, тринадцатую? Сначала мы думали, что ее создал ледник, и уже закрасили ее в желтый цвет. А теперь приходилось заботиться о том, как совместить на одной и той же площади и желтый цвет ледниковой шлифовки, и фиолетовый цвет суффозионного подкопа... Давать фиолетовые штрихи по желтому фону или желтые по фиолетовому?
Карта только тогда может быть хороша, когда у ее составителей имеется четкая система условных знаков, то, что картографы кратко называют легендой (в этом значении слово «легенда» имеет вполне прозаический смысл и не заключает в себе ничего сказочного). Но и легенда только тогда удачна, если в ее основе лежит стройная классификация изображаемого материала.
Наверно, университетские преподаватели нам уже внушали эту мысль, но без проверки на практике она проскочила мимо нашего внимания.
Теперь такая легенда начинала вырисовываться в голове, и это происходило именно в результате столкновения с первыми же трудностями, в самом ходе попыток картирования. Так вот в чем был смысл борзовского тезиса о «плаче на борозде»!
За один вечер, лежа в палатке на животе, такого дела не сделать. Будем доучиваться на ходу, потратим на составление легенды, если будет нужно, даже несколько дней внизу.
И мы отправляемся в Поляну. Володя спускается туда с лошадью, а мы с Наташей идем вкруговую по уже знакомой мне гребневой тропе. От озера Хмелевского забегаем на осыпь — хотелось удивить спутницу и этим кругозором.
Вернувшись к озеру, пошли по самому водоразделу, полого спускающемуся к устью Ачипсе.
Опять она передо мною, когда-то так разочаровавшая меня однообразием лесная тропа, заброшенная и едва находимая по давно заплывшим «солнышкам» на зарубках. Но сейчас я смотрю и на этот путь новыми глазами. Озадачивает непостижимая выровненность ступеней, которые срезают гребень хребта. По-новому воспринимается и красота — что я, слеп что ли был, когда шел здесь в первый раз? Или секрет в том, что сейчас со мною идет Наташа? Именно она говорит мне, как хорош этот буковый лес, купающийся в бездонном воздухе круч, встающий из-под обоих склонов и закрывающий дали. Нет, таких далей не закроешь, они все равно чувствуются, ощущение полета не исчезает на всем протяжении тропы.
Хребет спускается так полого, что, если бы чуть выровнять тропу на нескольких уступах, можно было бы съезжать по ней на велосипеде. Недаром именно здесь инженер Константинов когда-то проектировал построить шоссе к вершинам Ачишхо[6].
Мы давно уже ниже уровня последних цирков, ниже границы, до которой распространялись древние оледенения. А пологие гребневые площадки, хоть и заросшие лесом, и тут распластываются перед нами, под ступенью ступень. Что же, их выравнивали не ледники? И это не участки «арен» древних цирков, какими мы считали гребневые площадки у метеостанции? В какой же цвет закрасить их на нашей карте? Неужели это остатки каких-то древних обширных плоских днищ широких долин или даже целых равнин, лишь впоследствии прорезанных лабиринтом ущелий? Первая несмелая догадка, больше сомнение, чем утверждение. Но все же и это еще один шаг к раскрытию тайн истории рельефа. Загадки одна другой увлекательнее.
Свидание с Аибгой
Трехдневное ненастье задержало нас внизу, в Поляне, но именно это и помогло нам разработать систему условных знаков для картирования. Отправляемся на Аибгу проверить на практике нашу систему. Вот она, моя любимая Аибга с ее замечательными цирками и пирамидальными пиками – карлингами! Как же было не воспользоваться новым поводом для свидания с нею!
Поднимаемся окружной вьючной тропой, но от Первых балаганов выходим на гребень и с него ухитряемся даже свою навьюченную Машку спустить по головокружительной карнизной тропе в Первый цирк. На месте старого балагана у тропки к ручью среди благоухающих лилий ставим свою палатку, и кажется, что она, белея, летит, словно парус, над необъятным простором, навстречу громадам Ассары и Чугуша.
А над нами Первый пик, тот самый, на котором мерзли Адамчик с Эммочкой и куда нам пришлось подниматься к ним на выручку среди ночи.
Какое наслаждение жить в этом вознесенном, парящем мире! И как хорошо просыпаться прямо на высоте 2000 метров: не нужно тратить сил на подъем с пятисотметрового уровня Поляны — все пики, все цирки Аибги рядом. А побывать во всех цирках — давняя, многолетняя моя мечта!
Из одного амфитеатра в другой ведут торные тропы через седловинки на отрогах главного гребня. Из Первого цирка во Второй через Эстонский отрог, из Второго в Третий через перевал у Черной Пирамиды. В каждом цирке — свой мир величия, загадок, неожиданных радостей. То находишь диковинную косо струящуюся по скале ажурную диагональ водопада... То обращают на себя внимание камни с зеленым налетом медной ржавчины — признаками оруденения...
На седловине под Черной Пирамидой отшлифованные до лоска бараньи лбы с штрихами-бороздками; их процарапали валуны, вмерзшие в исподнюю поверхность былого ледникового языка... Языка? При чем же здесь язык? Ведь мы на перевале. Вспоминаю ледниковое «боа» на седле у Скального Замка. Мы уже знаем из геоморфологии, что такие ледники называются переметными: значит, мы видим следы древнего переметного ледника, спускавшего свои «ноги» в оба цирка сразу. А Черная Пирамида тоже служила как бы передней лукой этого ледникового седла!
Если острова обособляются размывом между двумя рукавами реки, то геоморфологи называют их останцами обтекания. Перед нами бывший остров, обнятый в прошлом двумя потоками льда. Разве не правильно будет назвать Черную Пирамиду останцом ледникового обтекания? Здесь это памятник давно прекратившегося процесса, а Скальный Замок на Псеашхо, обнятый ныне существующим ледником, — это останец современного ледникового обтекания. Придется и такую форму предусмотреть среди условных знаков к нашим картам.
Как щедро начинают нарастать впечатления! Давно ли подъем на каждый пик Аибги в отдельности и даже поиск спуска в ее Первый цирк были для меня событиями? А сегодня мы за один день побывали сразу в трех цирках, да по пути поднялись и на Черную Пирамиду, такую крутую со стороны Красной Поляны. Поднимались, конечно, с юга, откуда она выглядит округлой луговой шишкой. Еще один номер в моей коллекции краснополянских бельведеров (естественно, что с Пирамиды отлично видна Поляна).

Через перевальчик на Рудничном отроге под Третьим пиком видна тропка. Выходим на перевал в расчете, что увидим следующий цирк. Но вместо Четвертого цирка перед нами открывается... бассейн Псоу! Мы вышли не на отрог между цирками, а на излом главного водораздела самой Аибги!
Сегодня нам надо побывать на всех пиках, взять геологические образцы с каждой вершины. Нужно попытаться, как и на Ачишхо, сказать, какие особенности стойкости горных пород помогли именно этим участкам хребта уцелеть от разрушения в виде вершин... Кстати, пики Аибги, в отличие от Ачишхо, сложены известняком, которому свойственно давать в рельефе крутые стенки. Не потому ли здесь так отвесны, так грозны стены цирков?
Мы на Третьем пике. Над отвесами прилепились необвалившиеся снежные козырьки. Они окаймляют более ровные части гребня почти непрерывным белым бордюрчиком. Вблизи видно, что это нависшие над обрывами снежные глыбы в десяток метров ширины и невесть какой высоты...
Нашими ли шагами, а может быть, и голосами потревожена часть снежного навеса. Мы слышим легкий хруст и видим, как в полусотне метров от пика участок козырька отламывается и рушится вниз. Издали ничего страшного. Будто просыпали муку из пакета. Но почему же вдруг снизу послышался такой грохот? Крохотные на вид комки снега (в действительности глыбы по нескольку десятков кубометров) подскакивали, как мячики, некоторые разбивались в белую пыль и сыпались после этого песочком — а грохот нарастал, раскатистый, как от артиллерийской стрельбы.
Мы видели падение лавины! Пусть маленькой, запоздалой летней лавины. Но даже она своим громом показала нам, насколько дикие и устрашающие силы освобождаются при этом... Как далеко все еще скачут пылящие белые мячики...
Какими же грандиозными бывают зимние и весенние обвалы!
— Ведь они уже на нашей тропке! — восклицает Наташа.
Да, час назад мы шли как раз по тому месту, откуда сейчас доносится канонада и где белая мука, просыпанная сверху, перекрывает видную нам с пика зеленую лужайку и бегущую по ней тропку. Хорошо, что обвал случился часом позже!
Прошли гребнем через все пики — видели пройденные цирки сверху. Планшет съемки покрыли значками по своей собственной легенде и остались довольны — кажется, она себя оправдывает.
Лошадь в Поляну отправляем с проводником прежним путем через хребет. А сами спускаемся по водопадной тропе. На каждом уступе откалываем образцы. Вот диабазы, именно на них ручей «спотыкается», не в силах пропилить неподатливый порог, и спрыгивает вниз, образуя вертикальную струю Аибгинского водопада.
Теперь перед нами не было транзитных порожних прогонов, подобных пути через заповедник. Где бы мы ни шли, любой отрезок маршрута отныне интересовал нас как объект геоморфологического исследования.
Когда-то мне хотелось сделать кольцевыми все туристские маршруты. Тем более грешно было бы ходить взад и вперед по одной и той же дороге теперь, занимаясь изучением рельефа. Значит, кольцевым будет у нас и наиболее далекий маршрут на Кардывач. Мы вольны выбрать для своих походов такие трассы, какие туристам и не снились. Пойдем к Кардывачу не низом, вдоль Мзымты, а поверху — по Аишхам. Знакомый путь по Мзымте только до Пслуха. Впрочем, теперь и он удивляет неожиданной новизной.
Прежде я ходил здесь, не замечая, например, речных террас — остатков древних днищ, вытянувшихся на некоторой высоте вдоль русел рек. А теперь мы без труда различали террасы, построенные Мзымтой в процессе врезания своего русла. Более того, оказывалось, что почти любое ровное место в долинах — не что иное, как уцелевшая площадка какой-нибудь из террас.
Пслухская караулка заповедника. Развилка путей на Псеашхо (через Коготь на хребте Бзерпи) и к перевалу Первый Аишха. Идем отсюда вверх по бурливому Пихтовому Пслуху, мимо шипучего водопада, зигзагами по большому лавинному прочесу в лесу... Выходим на луга Второго Аишха и поднимаемся на второстепенный перевальчик через Грушевый отрог этого хребта.
Перед нами вся долина верхнего течения Мзымты, гигантский желоб между горными валами Аишха и Агепста-Аибгинского хребта. Серо-сиреневые тучи над зеркально гладкими скалами пирамид Турьих гор — там, как грохот обвалов, перекатываются раскаты грома. А на дне долины среди иссиня-черной зелени пихт словно светло-зеленое озеро: это луга Энгельмановой поляны. К ним ведет круто спускающаяся горная тропа.
Невольно сопоставляю впечатление от этой картины с тем гнетущим чувством, которое вызвал у меня утомительный поход к Энгельмановой поляне по нижней тропе через Грушевый же хребет. Правда, тогда был дождь и вечно ненастные спутники — Гоша с Сюзей. Наверное, в хорошую погоду да с веселыми людьми и тот путь неплох. Но все равно эти два маршрута несравнимы. На нижнем нет такого кругозора, когда можно видеть весь фронт горных колоссов — от Аибги до Агепсты.
И хотя верхний маршрут связан с лишним подъемом и спуском и поход по нему удлиняется на день, ясно, что водить туристов к Кардывачу надо только этим путем.
Аишха очень похож на Аибгу. Такой же, если смотреть с юга, однообразный луговой хребтина с пологими вырезами седловин и почти не кульминирующими пиками. Монотонный крутой склон изборожден как бы стремительно струящимися лощинами. Лишь нижние пятьсот-шестьсот метров над Мзымтой одеты пихтовым лесом. Весь южный склон исчерчен коровьими тропками и выглядит поэтому, как и у Аибги, горкой-моделью для изучения топографических горизонталей. Да и стержневая вьючная тропа так же бежит вдоль всего Аишха по высотам 2200—2300 метров, и так же нанизаны на нее группочки пастушеских балаганов.
Один из таких балаганов делаем своей базой. Утром поднимаемся на Главный хребет. Перед нами «порученный» нам горный мир. Любую его деталь, поэтичную или прозаическую, мы одинаково обязаны заметить и истолковать.
Когда-то я ощутил переход от единичных впечатлений туриста к более широким восприятиям краеведа, к профессиональным интересам туристского работника... Теперь передо мною следующий скачок: я не только коллекционирую красоты, я объясняю, смотрю на них холодным аналитическим взглядом. Вот перед глазами скальная громада — вершина северного склона, так напрямик когда-то и названная неизобретательным топографом: Скалистая. Раньше, кажется, ахнул бы, онемел бы от восторга, впервые увидав ее кручи. А теперь — не кощунствуем ли мы с Володей и Наташей, если уже через минуту спорим друг с другом о количестве и высоте цирков на ее страшных склонах?
Впрочем, нет, все равно мы не холодные аналитики. Мы только быстрее схватываем картину в целом, а значит, полнее постигаем и ее величие.
У наших ног обрываются кручи заповедных северных склонов. Они тоже, как у Аибги, изрезаны крутостенными цирками, и к днищу каждого из них гребень обрывается отвесами. В цирках несколько скромных горных озерец. Нам неоткуда было взглянуть на кручи Аишха с севера, но, видя цирки, легко воображалось, каким нагромождением пирамид выглядел оттуда этот кажущийся с юга монотонным хребет.
За Мзымтой еще могущественнее возносится оскаленная Агепста, а на севере, за вовсе неведомой мне долиной Безымянки, высится не менее внушительный лесисто-луговой хребет, значащийся в заповеднике под не нанесенным на карты названием «хребет Герцена»[8].
Поперечные долины, изрезавшие склоны обоих хребтов, поражали чеканной ясностью своих древнеледниковых очертаний. Корыта-троги — как с чертежей в учебниках. В кресловидных цирках хребта Герцена сняли таинственные, не значившиеся на карте озера.
Но сейчас наша цель не эти недосягаемые громады, а уже достигнутые нами зубцы Аишха. Топографическая карта была здесь вполне точна, исправлений не требовала.
Теперь мы уже не превращаем карту в цыганский платок, не закрашиваем выявляемые контуры сплошь одним цветом, а наносим цветную штриховку.
Изображение рельефа штрихами — хребтов в виде елочек, а холмов лучистыми звездочками — было делом давно известным. Наше новшество состояло в том, что мы делали штрихи разноцветными. Склоны, обработанные ледником, изображали розовыми штрихами, а прорезанные речным размывом — синими.
Получившийся рисунок нас невольно обрадовал. Склон не только не исчез, как исчезал раньше, при сплошной закраске фона, но, напротив, выявился во всей своей сложности: крутые части выразились более жирными штрихами, а обрывы зубчиками. «Научная» раскраска не стирала рельеф, он сам начинал сиять разными красками, соответственно разным путям своего происхождения.
На Ачишхо нас затрудняли формы со сложной историей: закраска фона не допускала наложения одной краски на другую. Штрихи позволили решить и эту задачу: в «елочках» можно было, чередуя, сочетать «хвоинки» разного цвета.
Радостное чувство верно найденного приема, метода. Теперь мы вооружены и уверены, что справимся с работой. С увлечением обходим цирк за цирком — они ложатся на топокарту ажурным цветным рисунком. Весь северный склон начинает «зиять» красными зубчатыми подковами — так выглядят на нашей карте окружающие каждый цирк отвесы, созданные морозным выветриванием у края исчезнувших ледников.
Подножия этих стенок, прикрытые плащами осыпей, возникли в результате перемещения и отложения щебня, упавшего сверху. Здесь и наши цветные штрихи становятся прерывистыми, на подвижных частях осыпи распадаются на черточки, а на нижних, успокоившихся частях осыпных шлейфов превращаются в точечный пунктир. Веера из точек изображают скопление обломков, а каждая точка в отдельности свидетельствует об окончании пути обломка. На такой карте рельеф сам рассказывает свою историю.
Первый, Второй, Третий Аишха — все они высились пирамидами на Главном Кавказском хребте. Чем ближе к Кардывачу, тем круче становились их скаты. Склон Третьего Аишха был настолько крут, что на нем исчезала магистральная тропа, негде было ютиться балаганам. Именно здесь начинался переход к кручам Кардывачского горного узла.
Но счет Аишхам еще не был закончен. Пастухи, не стесненные геоморфологической логикой, нарекли Четвертым Аишха не следующую к востоку вершину главного водораздела (не Западный Лоюб), а параллельный ему отрог, отделенный от главного продольными же верховьями Сумасшедшей речки. Только здесь нам и можно было пройти к Кардывачу с лошадью.
Крутизна склонов особенно подчеркивалась ручьем, который мчался вниз с удивительной прямолинейностью, почти не меняя чуть ли не тридцатиградусного уклона струи по всей длине падения. Это был как бы единый водопад с всклокоченной водой, неудержимо рушащейся и почему-то не вырывшей тут никакой долины. Вечная вспененность всего потока послужила основанием и для названия: пастухи называют ручей Содовым за сходство с сильно газированной шипучей водой.
Даже странно, что этот ручей лишь впадает в Сумасшедшую речку, а не сам носит такое название.
Пересекли Сумасшедшую речку. В своем продольном течении, то есть там, где она струится параллельно Мзымте, это вовсе не сумасшедший поток. Теперь нас отделяет от Мзымты лишь округло оглаженный вал Четвертого Аишха. Легко находятся какие-то тропы, быстро поднимающие нас на луговые просторы этого вала. Мы и не подозревали, что встретим здесь так много стад и пастушеских балаганов.
Казалось, мы уже налюбовались Агепстой с противолежащих вершин Аишха. Что мог сулить нам второстепенный луговой хребтишка, прижавшийся к подножию Главного хребта? Однако Агепста с Четвертого Аишха выглядела еще великолепнее. Словно этот хребтик специально воздвигли здесь, чтобы смотреть с него на чудовищные бастионы Агепсты, на пышно-голубой «мех» ее ледников... С наслаждением картируем райские луговины. Потом берем на спуск.
Вдоль всего нижнего поперечного участка Сумасшедшей речки нашлась неплохая тропа. Тут-то речка стала оправдывать свое название, ибо крутизна падения ее русла уже лишь немного уступала Содовому ручью. Еще раз задумываемся над возможными причинами этой крутизны. Да, и ручей и речка текут среди пород той же стойкости, что и соседние реки. Почему же они не успели вырыть себе такие же мощные долины, не выположили по всей длине свои русла? Быть может, им приходилось преодолевать встречное поднятие недр? И если это так — значит, здесь проходит зона повышенной подвижности земной коры или даже зона разлома. На наших картах тут пришлось рисовать только жирные штрихи и зубцы. При этом одной синей краски, показывающей речной размыв, оказалось мало. Надо было закрасить и фон всего так явственно поднимающегося участка. В голову пришло еще одно предположение: возможно, что и крутизна склонов Третьего и самое существование Четвертого Аишха связаны с недавними интенсивными поднятиями, с торошением рельефа именно этого района.
На карте В. Н. Робинсона в этом месте показан надвиг древних структур Главного хребта на более молодые структуры южного склона Кавказа. Этот разлом прослежен геологами в недрах. Но мы видим, что с ним совпадает увеличение крутизны и в современном рельефе. Значит, древний рубец подвержен тут и молодым унаследованным подвижкам?..
Сумасшедшая речка! Поневоле станешь скакать как сумасшедшая, если прорезаемое тобою дно долины поднимается навстречу быстрее, чем успевает врезаться русло.
Аишхи пройдены. И не только пройдены: закартированы, промерены, исстуканы геологическими молотками. Больше того: Аишхи пережиты нами. Ведь это наше боевое крещение. Мы прошли по этим горам, и теперь у нас в руках планшеты, заполненные результатами сплошной съемки. Пусть кто-либо пройдет по нашим следам и проверит нашу работу. Мы готовы спорить, отстаивать, готовы выслушать критические замечания — это будет завершением проверки наших способностей, наших знаний. Спасибо, Аишхи!
Верхний Кардывач
Кардывач. Пусть в середине лета на его горах и нет такого, как в сентябре, алмазного убранства, он, как и прежде, чарует. Но теперь я не столько любуюсь его красотой, сколько анатомирую мысленно рельеф этой озерной котловины. Холмы, с которых впервые открывается озеро, — морена, нагромождение валунов, вытаявших из ледника. Когда-то тут кончался язык ледяной реки. Но сейчас озеро уже далеко отступило от моренной запруды: его оттеснил своими наносами Лагерный ручей, весело бегущий в Кардывач со склонов Кутехеку. Он ухитряется впадать в озеро совсем рядом с вытекающей из него Мзымтой... Моренная запруда — группа красных точек на карте. Выносы ручья — скопление синих точек.

На Кардываче больше нет домика-лагеря — говорят, что его свалило лавиной. У нас своя палатка, мы проживем и под пихтами, но туристам придется худо. Задумываюсь о гипрокуровских проектах, о своей рекомендации строить здесь турбазу. Конечно, мы и сейчас видим на склонах Кутехеку высокоствольные пихты у самого берега озера — показатели того, что лавин тут давно не было. Но какая же сила смела домик? Воздушная волна от соседней лавины?
Исследования начинаем с Верхней Мзымты. Она перед нами, пропущенная на картах долина, крутой дугой изогнутая вверх по течению влево. Километра через два находим мелководную лужу, подпруженную щебневыми осыпями с круч Лоюба. Не о ней ли упоминал инженер Сергеев как об озере в верховьях Мзымты выше Кардывача?
Под навалами щебня речка совсем исчезает, и говорливое журчание ее струй доносится из-под камней.
Все грознее, все неизмеримее встает слева от нас Лоюб. Этот пик, обративший к Кардывачу однообразные луговые склоны, оказался со стороны Верхней Мзымты одним гигантским утесом. Его стены, почти отвесные, взметываются вверх не меньше чем на километр. Такого величия мне еще не приходилось видеть.

Кажется, вот-вот — и верховья долины сомкнутся. Но нет, со стен замыкающего их амфитеатра струятся каскадами ручьи, возникшие где-то выше. Значит, стены — лишь уступы гигантской лестницы. Это такая же лестница цирков в верховьях древнеледниковой долины, как и у старой нашей знакомой — Ачипсе. Только истоки Верхней Мзымты лежат почти на километр выше. Следовательно, и ледник здесь мог существовать дольше, чем на Ачипсе, потому и следы его тут свежее. Действительно, закраина каждого уступа, бровка любой ступени лестницы оглажена, отшлифована и блестит, словно покрыта лаком. Как метко окрещены в науке эти полого округлые и гладкие каменные холмы — бараньи лбы. А вот и курчавые скалы — это тоже меткий научный термин — скалы на бортах долины, словно вылизанные ледником.
Местами на бараньих лбах видны глубокие царапины. Когда я читал в книгах о том, что лед способен процарапывать на камне шрамы, в это не верилось. Как же так? Лед надрезает камень? Теперь легко понять, что скалы исчертил не самый лед, а вмерзшие в его подошвенную сторону каменья. Ледник драл ими дно долины, точно варварская швабра.
Обхожу огромный валун и, вздрогнув, останавливаюсь. Передо мной на траве разостлана... медвежья шкура. Быстро отступаю за угол валуна и делаю спутникам знаки рукой: не шуметь, пригнуться! Торопливо и поэтому невпопад рву застежки на футляре фотоаппарата, выдвигаю объектив, а друзья, не понимая, в чем дело, стремятся вперед и почти выталкивают меня за угол.
«Шкура» к этому времени услыхала наши шаги и встала на задние лапы. Внушительная медведица ошалело оглядела нас, преотвратно рявкнула, словно выругалась, брезгливо тряхнула головой и броском метнулась вверх по склону на всех четырех, комично охая. Тут только мы увидели, что рядом с нею подпрыгивает мячиком небольшой медвежонок.
Все это произошло молниеносно. Мы защелкали аппаратами, когда и мама и детеныш были уже далекими светло-бурыми пятнышками. Оказалось, что охота с фотоаппаратом нелегкое дело и требует большой сноровки. Я смотрел вслед медведям и завидовал крепости их сердец: такой галоп по тридцатиградусной круче!
Впереди еще один уступ с водопадными струйками, а за ним, точнее над ним, чувствуется следующий, вышележащий цирк с особенно просторным днищем. Все признаки говорят, что склон уходит ниже видного нам края уступа, что за этой кромкой не площадка, а впадина, и даже самый воздух над ней — не знаю чем (цветом? светом? дымкой?) — шепчет нам: тут скрыта какая-то тайна. Я уже владел ключом к этой тайне — потом расскажу, каким — и уверенно сказал:
— Наташа, сейчас мы найдем озеро! Вот увидишь.
Поднимаемся в обход уступа, приближаемся к бараньим лбам, замыкающим чашу, и с первого же лба видим у своих ног глубокое кобальтово-синее озеро. Прямо в воду спускаются крутые курчавые скалы. В ней плавают обломки недотаявших льдин. Зеленовато-белые с поверхности, под водой они становятся лазурно-малахитовыми, непостижимой ясности и силы цвета. Дивное диво, не учтенное, не предусмотренное...

Конечно, инженер Сергеев упоминал именно об этом озере. Но почему же у него не нашлось ни одного теплого слова о его красоте?
Теперь мы расскажем об этом Верхнем Кардываче на турбазе, и тогда в горах появится новый туристский маршрут. Надо будет только предупреждать гостей, чтобы не принимали за Верхний Кардывач лужу на Верхней Мзымте. Не назвать ли ее ради этого «Средним Кардывачом»? Нет, это кощунство. Пусть остается просто лужей.
Крупные земляные работы
Решаем, что Володя вместе с примкнувшей к нам группой студентов-зоологов еще раз пойдет по Верхней Мзымте и замерит все повороты этой долины до Верхнего Кардывача своей буссолью. А мы с Наташей попытаемся подняться от нижнего озера прямо на вершину Южного Лоюба — наблюдатели нас заверили, что забирались туда для учета туров. Склон Лоюба отсюда крутоват, но весь луговой, зеленый, лишь изредка перемежающийся со скалистыми выступами; внешне — вроде подъема без троп по луговому склону к пикам Аибги. Но мы-то видели Лоюб с Верхней Мзымты и помним грандиозность его восточных стен, отвесных на километр в высоту. Даже снизу было страшно смотреть на свирепые вторичные пички-жандармы и зияющие расселины. А каким огромным все это покажется, когда мы доберемся туда, наверх? Насколько головокружительнее будут кручи, непреодолимее трещины...
Крутой подъем ярко цветущими лугами. Такой крутой, что моментами задумываешься, можно ли лезть дальше? Да, это посложнее Аибги. А насколько красивее! Ведь под нами на дне воздушного бассейна все время виден стынущий, совсем не похожий на водоем Кардывач — пластина из матовой бирюзы.
А горы, горы! Во весь рост воздвигаются, оказываются еще более грозными, неприступными громады Цындышхи, огромными и сложными вырисовываются цирки массива Кардывач, тезки озера. Даже Кутехеку, эта сутулая зеленая горка — и та вырастает и заставляет относиться к ее луговой вершине с уважением. Сколько на ней цирков, сколько лощин!
Пока поднимались по траве, кое-как помогали стебли. Когда же мы оказались выше 2500 метров и начали видеть через Кутехеку громоздящиеся за его гребнем горы Бзыбского бассейна, трава поредела. Все больше осыпей и бесплодных каменистых уступов. На одном из них уцелел удивительно узкий обелиск — скала метров в двадцать высотой при сечении призмы два-три метра... Наверное, раньше — найди мы такого «монаха» поближе к Поляне — я был бы в восторге, записал бы его в минимум экскурсионных объектов, стал бы водить к нему туристов. А теперь сколько их, подобных чудес?
У вершины появляются лоскуты тумана. Он сгущается и уже накрывает нас. Не собьемся ли с пути? Казалось бы, выше вершины не попадешь, и пока можно идти вверх — иди. Но ведь вершина Лоюба раздвоена, как клюв,— значит, есть риск попасть на более низкий правый зубец, на жандарм? Будем держаться левее желоба, который в своих верховьях, наверное, и отделяет вершину от жандарма.
Впереди слышен дробный шум: разбуженный кем-то камнепад. Вглядываюсь в чуть поредевшие облака — туры! Они скачут над нами. Пришлось съежиться, когда -мимо проскакало несколько каменюк. Молодцы туры! Так их, так их, незваных пришельцев, камнями их! Впрочем, пока камни летели, было не очень смешно.
Какая под нами крутизна и глубина! Достаточно немного пасть духом, растеряться — и на той же самой круче задрожишь, встанешь на четвереньки, потеряешь человеческий облик — и тогда один шаг до гибели. То и дело помогаем себе руками — подтягиваемся на очередные скальные уступы. Смещается облачный занавес, и мы наравне с собою видим правую вершину лоюбского клюва, дикий кинжал. Там продолжают скакать и грохотать камнями спугнутые туры. Между нами и этим зубцом зияет дикая расселина. Хорошо, что мы вовремя уклонились от правого жандарма.
Теперь лишь немногие десятки метров отделяют нас от вершины. Туман в честь нашего прибытия уходит с пика. За ближайшим уступчиком раздается резкий свист. На нас смотрит ошеломленный тур, круторогий красавец, стоящий на страже целого табуна. Он еще раз издает сильный и краткий свист, вроде «тю», и при этом недовольно бьет копытом. И сразу становится слышен камнепад — это поскакало еще одно стадо туров. Они мчатся наверх на самый пик и исчезают за гребнем. Куда же они там прыгают? Лезем за ускакавшим от нас красавцем. Туры и не думают уходить далеко. За первым же уступом они остановились и с любопытством наблюдают, откуда мы появимся. Мы на вершине и, не веря своим глазам, видим, что и над страшными безднами по ничтожным карнизикам туры легко скачут галопом, буквально, на наш взгляд, чудом удерживаясь от падения...
Теперь можно и осмотреться. Наша первая высота 3000 метров. Под ногами километровая бездна — чудовищный оскал Лоюба к Верхней Мзымте.
Пока нет тумана, скорее за съемку. Засекаем и наносим на планшет направления на основные вершины. Нам ясно, что Южный Лоюб высится на отроге Главного хребта, а что главный водораздел бежит по легко проходимым гребням Западного и Северного Лоюбов. Но и отсюда он идет не прямо к Цындышхе, а в обход огромного, утаенного, совсем невидного снизу цирка, скорее даже короткого трога с группой матовых озерец. И лишь от Цындышхи гребень поворачивает к пику Кардывач.
Да, мы установили крупную неточность карт, гораздо более значительную, чем та, которую подметили инженер Сергеев и Евгения Морозова! Уже одного этого было достаточно, чтобы оправдать нашу работу. По нашему сигналу сюда придет партия топографов, вооруженная точными приборами, пользующаяся данными аэрофотосъемки. Конечно, нам сейчас не по силам точное исправление этой карты. Но можем ли мы вообще пройти мимо и не зафиксировать ничего? Ведь нам, хотя бы и в приблизительной форме, нужно показать не только истинный рельеф этого места, но и попытаться расшифровать его происхождение.
Значит, мы вынуждены провести здесь глазомерное исправление карты, создать, хотя бы грубую, схему, наметить каркас главных направлений в путанице кряжей Кардывачского горного узла.
Делаем засечки. Наносим на карту пики, пока приблизительно — мы ведь еще не знаем расстояний до них. Но уже и сейчас ясно, что эту часть Главного Кавказского хребта следует переместить на карте на несколько километров к северу и востоку.
— Наташа, а ведь это можно назвать крупными земляными работами!
— Скорее, скальными.
Съемка закончена, с пика взяты геологические образцы.
Спускаясь по гребню, видим, где приютился под Южным Лоюбом Верхний Кардывач. На его берегу стоит Володя с зоологами. Катимся прямо к озеру по пологому снежнику, разбрызгивая снег веерами.
Сверяем результаты своей и Володиной съемок. Невязки минимальные. На чертеж уже неплохо ложатся и Южный Лоюб, и Верхний Кардывач, и вся Верхняя Мзымта.
Синеокое
Среди гранитных грозных гор
В стране лазоревых озер
Живет еще одно.
Нежданно взгляд его сыскал:
Как в чаше каменной, средь скал
Таилося оно.
И надо же мне было спрашивать наблюдателя, откуда и куда мог вести загадочный след, который мы видели с Леной и Всеволодом на снегах Верхней Мзымты. Я не учел, что весь район Кардывача был подведомствен его кордону. Слова о том, что туристы видят в заповеднике следы безнаказанных браконьеров, звучали как прямой укор допускающему это хранителю. Он отвечал нам явно нехотя, смущенно и уклончиво. Маленький пожилой человечек своим видом совсем не убеждал, что он может быть действенным защитником заповедных рубежей от нарушителей.
Рассказываю, как след подводил к озеру у мыска...
— Так там же тропа!
— Как тропа? Покажите.
— Известное дело, прямая тропа на Абхазию...
— А почему же туристы ходят через Ахукдарские болота?
— А это уж я не знаю.
Наблюдатель ведет над берегом озера и, не доходя до мыска с ручьем (теперь мы понимаем, что и сам мысок возник как дельтовый вынос ручья), показывает уходящую вправо вверх в кусты потайную тропу. Я дважды не разглядел ее в прошлом, не заметил и сегодня. Нет, еще не всемогущие мы следопыты.
Всматриваюсь в примятую траву, вижу едва вдавившиеся в грунт отпечатки.
— Э, да здесь и сегодня кто-то ходил.
— А я и ходил. Там пастухи с Абхазии балуют, на эту сторону заходят. Я гонять ходил.
— Ну и что?
— Ну что — и прогнал.
В тропке можно было сомневаться лишь первые десять метров. Вскоре она превратилась в торную лесную тропу. Мы хорошо читали на ней и давние и свежие следы — тут были конский и козий помет, в одном месте валялась папиросная коробка, не успевшая размокнуть. Кто-то здесь ходит, и ходит частенько.
Тропа вывела к самому ручью и побежала вверх, сопровождаемая его веселым журчанием. Лес сменился криволесьем и субальпийскими луговинами. За одним из кустов стадо коз и молодой паренек. Коша у него нет, спит под буркой, из которой легко, всего на двух палках, делается подобие палатки.
— Ты откуда?
— Из Абхазии (называет колхоз).
— Почему же пасешь в заповеднике?
— Не знаю, какой заповедник?
— Как не знаешь? А разве вчера не тебе охрана говорила, что нельзя здесь пасти коз?
— Говорила.
— Ну, а почему же ты не ушел?
— Трава больно хорошая!..
Внушениям юноша поддается плохо. Проходим выше. Пути ветвятся, магистральный теряется, большая часть троп уходит правее, к главным вершинам Кутехеку. Поднимаемся на низшую седловину на гребне Мзымтинско-Бзыбского водораздела и убеждаемся, что через нее и Аватхару нет никакой тропы. Теперь идем левее, к пику Кардывач. Самые турьи места, а нет ни зверей, ни их следов. Видимо, с незаповедной абхазской стороны пастухи пошаливают, и зверь выбит или распуган.
Верховья ручья, впадающего в озеро Кардывач у мыска, тоже ступенчаты — еще одна лестница цирков с водопадами на уступах между ними. Впереди ступень глубоко вдавшегося в гору цирка и... снова уже знакомое нам предчувствие. Опять всё: и очертания склонов, слишком круто и низко скрывающихся в кармане цирка, и бараньи лбы, и какой-то туманец над впадиной — все говорит: сейчас мы увидим еще одно озеро...
На карте его нет. Что ж, это нас не удивляет. Предсказатели озер, мы найдем его и нанесем.
Поднимаемся по светлому гранитному щебню.
И вот они видны нам, напоенные дивной силой синевы, два глаза, два кобальтово-синих ока! Сбегаем к ним ближе и видим, что это не два, а одно озеро с двумя расширениями и узким соединяющим их проливом. Цифра «8», написанная линией отвесно-скального берега и налитая чернильно-синей водой среди гранитных лбищ...

Здесь тоже плавают глыбы льда, синеющие далеко в глубине. Сколько же еще таких сокровищ прячут наши горы? Сколько подобных «малых открытий» приготовлено нам природой?
Таинственная, изнутри льющаяся синева высокогорных озер не могла не рождать поэтических образов и догадок. На Карпатах подобные озера называют Морскими очами. Существуют даже легенды о подземной связи озер с морем: морская синева будто бы простерла сюда через неведомые туннели свои зоркие, смотрящие в небо глаза...
Наташа бросает в воду косточку от чернослива, и в воде загорается драгоценный камешек, долго спускающийся на дно. Глубина здесь, наверное, десяток метров, но в прозрачно-синей воде видна каждая трещинка скального ложа.
Один из зоологов раздевается и лихо фотографируется в позе ныряльщика, собирающегося прыгнуть в ледяные синие воды. Но осуществить то, что изобразил, не решается — нам и одетым не жарко.
Как назовем это озеро, нами найденное, ни на каких картах не значащееся! Под гипнозом первых впечатлений предлагаю название: Синеокое. Наташа согласна, зоологи тоже. И даже прозаичный Володя, не раз охлаждавший наши восторги, на этот раз заявляет:
— Ничего не скажешь. Действительно Синеокое.
Забегу несколько вперед. Наши описания Синеокого получили права гражданства. Сотни туристов поднимались и будут подниматься к нему. В сотнях экземплярах перечерчиваются кроки и приметы подхода к озеру. Название привилось, стало его неотъемлемой принадлежностью. Получила имя и речка, берущая начало в Синеоком и впадающая в Кардывач: ее стали называть Синеозерной.
Мы на сотни метров выше Синеокого. Вот и справа, уже на Бзыбской стороне, в самом истоке Аватхары заваленный снегом цирк... Но в середине снег протаял и...
— Наташа, опять озеро! Сколько же здесь озер?
Словно ожерельем из сапфиров украшены окружающие хребты.
По поводу Синеокого у меня еще было сомнение. Не его ли видели спутники Евгении Морозовой, писавшие о Кутехеку, что выше в горах есть «еще одно озеро»? Значит, возможно, что Синеокое не совсем наше.
А этот безвестный лазурный глазок в верховьях Аватхары — ведь он тоже отсутствует на картах, не упоминается в научных статьях, и он совсем ничей, известный одним местным охотникам, он сам удивлен, что мы его разыскали.
Подъем по гребню выше Удивленного озера оказался совсем не легким. Были моменты, когда начинали бояться друг за друга.
Пик Кардывач покорен. Высота около 3100 метров. Перед нами бассейн давно манившей нас большой реки Цахвоа[9], долина которой украшена в субальпийской зоне крупным (обширнее Кардывача) озером. Мы надеялись, что с пика Кардывач откроется и озеро Цахвоа[10]. Но нет, всю панораму севера загораживал мрачный пик, обнятый крупным переметным ледником. Такого пика и ледника тоже нет на карте — значит, и это наше маленькое открытие. По своему положению пик явно аналогичен Скальному Замку Псеашхо и Черной Пирамиде: ледником он оседлан как современный останец ледникового обтекания.
Теперь мы спускаемся к седловине между Кардывачом и Цындышхой. Из-за мрачного пика-останца, обнятого переметным ледником, показывается все более обширный участок днища долины Цахвоа, и на этом днище появляется кусок синевы — совершенно новый, невиданный. Купоросный, как из аптеки, пронзительно синий цвет. Большое, в два Кардывача, озеро — новый предмет нашей жадности, жажды, желаний. Но сегодня Цахвоа нам не под силу.
Возвращаемся новой дорогой. Трог водопадного притока Верхней Мзымты оказывается ступенчатым, но вполне пригоден для спуска.
У наших палаток озабоченный наблюдатель. Он говорит, что ходил в обход по Верхней Мзымте и что там все благополучно. Голос какой-то странный, словно он нам рапортует.
Тайна долины Юхи
Под гребнем, в выси вознесенные,
По изголовиям долин
Амфитеатры котловин
Резцом изваяны бессонным.
С Южного Лоюба мы хорошо просмотрели Западный и Северный Лоюб и убедились в легкой доступности связывающего их пологого гребня. Однако наблюдатель смущенно и упрямо повторил:
— Нет, там не пройдете.
Вероятно, он не понимает нас и считает, что мы хотим на Цындышху, бастионы которой, может быть, и действительно неприступны.
Пройдя по уже наизусть знакомой Верхней Мзымте, от Верхнего Кардывача берем вправо и легко поднимаемся на гребень Северного Лоюба. Новые бездны северных цирков, в них — не показанные на карте ледники. Вниз с гребня от нас убегает пяток серн. Они иногда останавливаются и смотрят на нас, а потом в знак неодобрения длинно, сипло свистят и продолжают скачку по крутым осыпям.
С правой вершины Северного Лоюба нам открывается глубокая и крутосклонная долина, уходящая далеко вниз, в таинственный лесистый мир среднего течения Цахвоа. Это Юха — безвестный лугово-скальный желоб, безукоризненный по форме трог, а над ним черный игловидный пик Смидовича — высшая точка заповедника.
Несколько шагов по гребню, и из-за поворота долины становится видно, что на ее дне покоятся одно под другим еще два больших озера, опять отсутствующие на карте.
Юхские озера! Они радуют нас и живописностью — ступени зеркальной лестницы — и неизведанностью. Ведь каждая такая находка повышает полезность, результативность нашей работы.
Невольно представляю себе, каким событием, каким чудом было бы для меня не то чтобы открыть, а хоть только увидеть два таких озера всего пять лет назад, в год моей первой мечты о Кардываче и Pицe. Да что там пять лет назад! Всего месяц назад мы обмеряли рулеткой и картировали восемнадцать болотистых лужиц на Ачишхо, и даже этот скромный хребет казался нам «страной горных озер»... А теперь на нас словно обрушивается красота и новизна, мы становимся обладателями сокровищ, каких не видит никто, и мы уже не успеваем усваивать, впитывать в себя новые находки. Ачишхинские лужицы? Дешевые стекляшки. А здесь — истинные сапфиры, лазурь, бирюза,— что есть еще драгоценного голубых и синих тонов? Но и хранитель целой коллекции драгоценных камней пресыщается: уже с меньшей остротой ощущаем и ценим прелесть вновь встречающихся самоцветов.
Движемся по гребню ближе к Цындышхе. Взгляд обострен: чутко всматриваемся в мельчайшие штрихи рельефа и по-охотничьи зорко во все живое. То один, то другой из нас замечает на далеких склонах серн, туров. Возникает соревнование — кто первый и кто больше усмотрит.
Под ногами трехсотметровые обрывы к лугам верхней части трога Юхи... Крупные камни — серые, буроватые... И вдруг — инородное коричневое пятнышко. Зверь! Бесспорно зверь. Но какой? Поочередно смотрим в бинокль и не можем понять.
Олень? Нет, не похож. Тур? Серна? Не тот цвет... А пятнышко маленькое, далекое.
Долина Юхи уже угостила нас такими неожиданностями, что, кажется, мы не удивились бы, обнаружив в ней и вовсе неизвестного миру зверя. Наше удивление усилилось, когда через полсотни метров из-за соседнего бараньего лба появился второй, еще более крупный зверь... И опять явно не олень и не тур... Вдруг в этой долине окажутся уцелевшими вымершие в остальном заповеднике зубры? Но это и не зубр — силуэт легче и тоньше.
Еще несколько шагов по гребню — и не верим глазам. За очередным отрожком нам открывается... белое движущееся по лугам пятно и перемещающийся черный столбик. Пятно — стадо коз, а столбик — пастух. За следующим холмом различаем выбитую среди лугов скотом площадку и дымящиеся хибары пастушеских балаганов! И такое творится в необитаемой части заповедника! Что это? Нелегальный поселок браконьеров? Или, хуже того, тайное бандитское гнездо?..
Эге, нам надо двигаться скрытно. Наши силуэты на гребне никакой радости этому народу не принесут, кто бы тут ни был.
Невольно вспоминаю рассказ одного зоолога, изучавшего далекие восточные районы заповедника, о том, как он столкнулся на маршруте, кажется, тоже неподалеку отсюда — в верховьях Цахвоа, с подобным нелегальным табором пастухов.
Его удивило, что они хвастались нарезным оружием новейших образцов... Зоолог сумел тогда создать впечатление у этих «хозяев», что следом за ним движется целый отряд заповедной охраны, и, пока они прятали оружие, улизнул от них, радуясь, что остался цел. Может быть, и мы видим такое же логово?..
Идем уже не по гребню, а лепимся по склону, обращенному к Верхней Мзымте. Лишь изредка, как военные разведчики, выглядываем через гребень в долину Юхи... Мы все ближе к загадочным животным. Наконец Володя заявляет, опуская бинокль:
— Я рассмотрел, что это за звери. Маленький — ишак, большой — лошадь.
Не будь мы взволнованы остротой ситуации, мы расхохотались бы над своими предположениями о неизвестном звере. Ореол романтичности, возникший было над долиной Юхи, развеялся, хотя и сменился тревожным дымком романтики совсем иного рода — скорее детективной...
За поворотом гребня узкая седловина, ее пересекает заметная и торная тропа. Не могли же не пробить тропу люди, пригоняющие на Юху целые стада. Но где она выходит к Верхней Мзымте? Далеко внизу по тропе кто-то быстро спускается вниз в сторону Кардывача. Бинокль!
— Не наш ли это наблюдатель?
Обходим удлиненный цирк Утаенных озер, убеждаемся в малой доступности утесов Цындышхи и пика Смидовича. С нескольких мест гребня заглядываем в верховья соседних с Юхой притоков Цахвоа. Видим на северных склонах Цындышхи не нанесенный на карты ледник и еще один цирк с несколькими, на этот раз суровыми и хмурыми озерами. Все они хороши, каждое по-своему, но когда их так много... Не заменятся ли в конце концов наши восторги холодным подсчетом, инвентаризацией сокровищ под мертвыми научными ярлыками?

Моментами становится даже грустно: зачем нам в таких неусвояемых дозах эта красота?
Можно с удовольствием съесть две, три, пять конфет. Но даже сладкоежка перестанет испытывать удовольствие на тридцатой. Неужели и мы, пресытившись, отнесемся к новым находкам так же равнодушно, как работники кондитерских фабрик к своей карамели?
Из цирка Утаенных озер спускаемся на браконьерскую тропу. Она испещрена следами — человеческими, конскими, ишачьими, козьими. Так вот куда вел загадочный след по Верхней Мзымте, который меня так удивил еще три года назад!..
У подножия склона тропа потерялась в высокой траве и скользнула в русло ручья. Неплохой прием маскировки. В русле следы не сохраняются. Именно поэтому выход тропы к пересыхающей луже на Верхней Мзымте (к «Среднему Кардывачу») оказался так незаметен. Не виден в траве издали и подъем ее по склону. А еще выше она устремляется в цирк Утаенных озер, в цирк, о существовании которого, глядя снизу, вообще нельзя догадаться — так глубоко он врезан в «карман» между Северным Лоюбом и Цындышхой. Хитро же замаскировали свое логово загадочные жители долины Юхи!
На спуске Наташа отстала метров на сто, беря образцы горных пород для коллекции, и догнала нас напуганная. За нами, прячась за камнями, шел какой-то юноша, видимо, лазутчик из нелегального табора. Нас заметили!
Спускаемся к Кардывачу. У Георгиади узнаем, что наблюдатель заповедника пришел с гор, рассказал, как видел нас на хребте (что же он, следил что ли за нами?), и поспешно, едва перекусив, ушел в Поляну...
Все это наводило на странные мысли. Вечером и ночью я не раз выходил из палатки, прислушивался — не навестят ли нас нежданные гости, пожелав свести счеты с обнаружившими их людьми. Но, видимо, как раз то, что мы никуда не ушли, и развеяло их подозрения. А наутро наш табор снялся и пошел не по направлению к Красной Поляне, а вверх по недавно показанной нам тропе на Кутехеку. Это вполне доказывало миролюбивость наших намерений.
О лучшем из озер
Красой ни с одним на озер не равно
В неведомый мир голубое окно.
Тропа от мыска вдоль Синеозерной речки. По-прежнему пасет здесь своих коз пастушонок с буркой. Вероятно, это аванпост юхских жителей. Держим путь не к низшей седловине гребня, а правее — на привольные пригребневые холмы, занятые лугами и порослями рододендронов. Именно сюда, ближе к вершине Кутехеку, устремляется большинство троп. Для идущих по ним прямиком на Аватхару Синеокое озеро останется далеко слева.
Гребень поднимается к вершине полого, низкие бугры чередуются с мягко вогнутыми седловинами. Вдоль каждой выемки белеет козырек из недотаявшего снега. Выходим на четвертую по счету седловинку со снежным козырьком (если первой считать наинизшую) и видим, что отсюда в разъявшуюся под нами долину Аватхары идет вполне сносный спуск. Как она близка и доступна! Конечно, именно здесь, а не через болота Ахукдарского перевала нужно ходить с Кардывача на Аватхару.
Впрочем... Я не рассказал еще об одной своей находке, сделанной в этом районе годом раньше — об Ацетукских озерах. А ведь они тоже претендовали на замену ахукдарского варианта пути к Аватхаре.
Ацетука — пирамидальная скалистая вершина на юго-восточной оконечности Аибга-Агепстинского хребта. Какие-то части ее видны с Рицы, но я не понимал, какие.
Внушительный по высоте пик (около 2600 метров) очень проигрывал при взгляде со стороны Мзымты рядом со своей соседкой — громадой Агепсты, превышающей три километра. С Ацетуки берет начало Азмыч, левый исток Мзымты. На одной из болотистых полян его долины сочится «нарзан», который еще в 1897 году изучал Залесский и назвал Ацетукским источником.
У самой вершины Ацетуки было показано и, конечно, дразнило меня еще одно озеро, поменьше Кардывача, с несколько комичным ни русский слух названием — Мзи. Из этого озера вытекала речка Мзимна. В сущности, это был правый исток Аватхары, направленный как раз навстречу главному ее истоку.
«Мзи», «Мзимна»... И в этих именах слышится перекличка с Мзымтой, с древними медозюями и мизимианами...
Легко было решить, что к озеру Мзи должен существовать выход со стороны Азмыча. Намеки на такую возможность я вычитал и из статей Морозовой и Рейнгарда. Кстати, по этим статьям получалось, что на Ацетуке встречаются еще и другие, не нанесенные на карту озера.
Ацетуку я посетил, уже став студентом-географом, но еще в туристском порядке, в 1936 году. Помню, как поразил нас своими совсем гладкими плитами скальный амфитеатр верховьев Азмыча. Над одной из балконных ниш вздымались особенно отвесные коричневые скалы, ровные, как стоймя поставленные стены. К дну цирка из большого снежника ниспадал водопад. А дно это удивительно глубоко западало за бровку порога нижних водопадов — они выливались из потайного цирка. Подножия отвесов явно уходили куда-то ниже уровня краев чаши.
Я уже знал из геоморфологии о существовании озер в цирках. Именно здесь я впервые почувствовал, что могу «предсказать» озеро... Ведь и тут сам воздух, напоенный покоем и словно освещенный снизу таинственным сиянием, говорил: в чаше прячется чудо.
Совсем рядом гребень, разделяющий бассейны Мзымты и Бзыби. Сразу за седловинкой на этом гребне (за ней потом укоренится имя Ацетукский перевал) лежит зовущее нас озеро Мзи. Но что нам озеро, значащееся на картах, когда прямо перед нами в истоках Азмыча таится нечто ускользнувшее от глаз топографов, совсем неведомое, особенное!
Каскады из загадочного цирка спускаются к озеровидным лужицам. Именно отсюда поднимается левее тропа к перевалу. Возле лужиц коши. Пастухи на наш вопрос, где здесь озеро, машут руками, кто куда:
— Там. И там. И там тоже. Много озер.
По их словам получается, что чуть ли не в каждом истоке Азмыча спрятано по озеру. Вот так карта с единственным на Ацетуке озером Мзи!
Взбираемся на перевал. С седловины никакого озера Мзи не видно, поэтому легче поддаться соблазну и уклониться от перевальной тропы вправо по криволесью, через днища мелких смежных цирков, лавируя между гладкими бараньими лбами. Сейчас перейдем еще одно лбище... Обойдем кусты...
И вот награда за догадку, за предчувствие: с одной из перемычек между цирками видно непостижимой голубизны озеро. Мы застыли у молочно-голубых вод, словно загипнотизированные.
Как могло оставаться в безвестности это сокровище, эта чаша матовых вод, матовых при всей их дивной прозрачности?
У художников синие и зеленые тона именуются холодными и противопоставляются красным, оранжевым, как теплым. Но ацетукская синева была такой мягкой, насыщенной, бархатной, что ее хотелось назвать теплой, забывая про ледяной холод этой воды. Да разве это вода? Это неведомый напиток, лазурное вино. Такая влага могла бы оказаться целебной, чудотворной... Берега опускались к его глади крутыми, почти отвесными лбами. Древнеледниковый цирк, в котором таился водоем, был особенно глубоко врезан, словно проникал в сокровенные недра горы. Задний фас цирка вставал отвесно-ступенчатыми склонами. Лиловато-коричневые пласты слагали склоны Ацетуки внушительными крутонаклонными плитами, косыми гладкими зеркалами по нескольку сот метров каждое. Неправдоподобная декорация!
Это было год назад. Я еще не мог предполагать тогда, что это озеро окажется первым в целой веренице счастливых находок. Были сделаны лишь немедленные «организационные выводы» — внесены уточнения в кроки маршрута Кардывач — Рица, и несколько групп туристов в то же лето получили рекомендации идти с Кардывача на Аватхару дальним вариантом — через Ацетукские озера.
Тогда же мы посетили и Мзи, оно было очень мило, по-своему живописно, окружено скалами и осыпями, но все это было настолько более невзрачно по сравнению с озером в истоке Азмыча!
От первых посетителей Ацетуки вскоре пришли восторженные отзывы, и с этого же года к озеру устремился целый поток благодарных туристов...
И вот теперь, уходя с Кардывача вместе с Наташей и Володей, мог ли я не завести их к озерам Ацетуки? Нам, только что «развязавшим» Кардывачский узел, конечно, хотелось справиться и с Ацетукским. Правда, Ацетука лежала уже вне заповедника. Но ведь часть ее цирков питала своими снежниками истоки исследуемой нами Мзымты. Следовательно, знакомство с ними, хотя бы и с выходом за пределы заповедника, было не только нашим правом, но и обязанностью.
«Мост» через желоб
Для чего же мы поднялись от Кардывача на Кутехеку?
Нам пришла в голову мысль: разведать новый путь от Кардывача к Ацетуке, не низом, через болотистые поляны Азмыча, а поверху, по гребню Ахукдарской перемычки... В годы своей туристской работы я вряд ли додумался бы до такого варианта. А сейчас геоморфология помогала и выбору нового туристского маршрута.
В чем тут был секрет? Чтобы оценить новизну и прелесть этого варианта, надо представить себе, какова она внешне, Ахукдарская перемычка, и где она находится. Взгляд на карту поможет это сделать.
Перед нами могучий вал вершин Главного хребта. Вытянут он в общем с северо-запада к юго-востоку. В районе Кардывачского узла пики особенно сложно нагромождены и скучены — видимо, тут район наиболее резкого и недавнего «торошения» недр.
От Главного хребта отходят отроги. Если представлять себе эту схему примитивно, по-школьному, можно подумать, что поперечные отроги так и тянутся вплоть до берега Черного моря. Но в действительности они гораздо короче и кончаются тут же, у долины Мзымты, на всем ее течении выше Красной Поляны. А рядом, за долиной протягивается совсем не поперечный, а, напротив, продольный передовой хребет, строго параллельный Главному. Хребет этот — Ацетука — Агепста — Аибга.
Долина Мзымты легла здесь между Главным и Передовым хребтами Кавказа огромным продольным желобом. Если смотреть с Ахукдарского перевала, желоб виден на десятки километров. Лишь ниже Сланцевого рудника Мзымта покидает этот дол, сворачивает левее и у Красной Поляны, в порогах у Греческого мостика, прорезает ущельем зону Передового хребта (потому там и возникло ущелье с порогами).
Но взгляд вдоль желоба позволяет понять, что с уходом Мзымты из продольной долины в поперечную дол не кончается. Текущая навстречу Мзымте старая наша знакомая речка Ачипсе врезала низовья своей долины в сущности в тот же желоб, которым отделила массивы Главного хребта — Чугуш и Ассару — от передового массива Ачишхо (кстати, значит, и Ачишхо — это кусок Передового хребта, отрезанный Мзымтой от Аибги).
А если проследить этот желоб вверх по Мзымте и далее на юго-восток?
Уже при взгляде с Кутехеку нам видно, что на юго-восточном продолжении того же самого желоба расположена широкая, тоже продольная долина Аватхары. А от Кардывачского узла к Ацетуке поперек желоба протянулся недоразрушенный хребтик, его еще не размыли ручьи, стремящиеся к Мзымте и Аватхаре. Возможно, этот Ахукдарский хребтик уцелел и потому, что вместе с резким поднятием Кардывачского узла именно здесь сильнее приподнято было и дно желоба. Гребень у хребтика размытый, склоны некрутые: как и все днище продольного Мзымтинско-Аватхарского желоба, перемычка сложена легко разрушающимися сланцами (а над Кардывачом высятся стойкие граниты, и на Ацетуке с Агепстой — не менее прочные породы, обязанные своим образованием допотопно древним вулканам: туфогенные песчаники, порфириты).
Это-то все и надо было знать, чтобы оценить возможность перехода с Кардывача к Ацетуке по гребню Ахукдарской перемычки. Кстати, по водоразделам как раз таких умеренно высоких хребтов обычно проходят достаточно торные тропы.
Путь по перемычке, словно по поперечному мосту через исполинский продольный желоб! Надо ли говорить, какие панорамы, какие дали он обещает открыть по обе стороны?
Выйдя на гребень Кутехеку, сворачиваем по нему направо. На водоразделе действительно нашлась тропа, обходящая небольшие повышения гребня косогорами. Не везде она сохранна, местами через осыпавшиеся карнизы трудно проводить лошадь.
Через час торжествуем: мы пересекаем скучную перекальную ахукдарскую тропу поперек, ибо идем вдоль по гребню. Насколько же ярче, красочнее, интересней этот верхний путь на Аватхару, чем стандартный ахукдарский! Там шесть километров обратного хода по Мзымте. Там болота Карантинной поляны и более чем скромная награда — лишь одна кругозорная точка: самый перевал. Стоило ли подниматься, чтобы сразу спускаться?
А путь через Кутехеку! Ни болот, ни обратного хода по пройденной тропе. Путь по гребню с далекими видами и к Аватхаре и к Мзымте. Особенно эффектна отсюда Агепста с ее большим, словно пухлым ледником. Ахукдарский хребтик — как и Четвертый Аишха — чудесный бельэтаж для желающих любоваться Агепстой.
К Аватхаре с перевала не спускаемся. Обходим горизонтальными косогорными тропами еще одно повышение гребня — светло-зеленый округлый холм Ахук-Дара, похожий на каравай, и легко выходим к Ацетукскому перевалу.
Ацетукское ожерелье
В глазницах чаш утаены,
Глядят глазки голубизны.
Не скрою, я не без тревоги подводил спутников к Ацетукскому озеру.
Мы только что видели ледяную синеву Верхнего Кардывача, открытую и ясную лазурь Юхских озер, резкую синь Синеокого, купоросную синьку Цахвоа, бирюзу Удивленного, зеленоватые очи Утаенных и Северных озер Цындышхи. Не померкнет ли по сравнению с этими сокровищами мое Ацетукское, моя первая любовь?
Выходим к озеру — и все сомнения исчезают. Властная, покоряющая голубизна молочно-матовых вод сияет по-прежнему и заставляет забыть о всех соперниках.
Да, каждое озеро знает свою синеву, имеет свои неповторимые оттенки. Но сколько я их ни сопоставлял, и теперь, и потом, когда повидал еще десятки высокогорных озер, — это, под Ацетукой, гордо удерживало первенство.
При первом приходе сюда казалось счастьем пробыть на его берегу полчаса. С чем же сравнить возможность встать лагерем, поселиться у этих вод, наблюдать их во все часы суток?
Наша крылатая палатка с белым мотыльком-пологом уже отражается в озере, приобретая в водном зеркале оттенок нежной голубизны.
Изучив статьи Евгении Морозовой и Рейнгарда, я знал, что озеро в истоках Азмыча не было нашим открытием: оба исследователя видели его в 1911—1913 годах. Но и Рейнгард писал о двух озерах в верховьях Азмыча, а ведь был еще Альбов, ходивший к Ацетуке со стороны Тихой речки, — он писал даже о пяти озерах. Это перекликалось и со словами пастухов. Надо будет обшарить и смежные цирки.
Для съемки крутобокой чаши с озером остается Володя, а мы с Наташей отправляемся в соседние цирки, сначала через Ацетукский перевал к уже знакомому мне озеру Мзи. Теперь, картируя весь цирк, мы изучаем его подробно. Луговые и каменистые скаты цирка здесь спокойнее и положе — почти нет отвесных обрывов, окунутых в воду. Только верхние стены Ацетуки окружают цирк величественной короной зубцов. Не водопадом со скалистого уступа, как Азмыч, а скромным пологим ручейком вытекает из озера тихая Мзимна, так что в его воды без труда проникает форель. Озерную гладь то и дело тревожат всплески играющих рыбок.
Попади мы в мир цирка, занятого Мзи, после долгого пути по лесистым хребтам и долинам, не побывай мы до этого на обоих Кардывачах и на соседнем сказочном озере — как бы мы были счастливы увидеть милое зеленое Мзи на фоне суровых утесов Ацетуки! Но куда уйдешь от убийственной силы сравнений, от ощущения скудости, ограниченности, которое оставляет Мзи при невольном воспоминании о его дивном соседе?
Да, здесь природа была посредственным художником, там — талантом, если не гением. Да и что таить? Мзи уже было показано на картах, его видели, измеряли... А сколько заманчивого в не нанесенной на карту красе Ацетукского озера!
Вернувшись в бассейн Азмыча, предпринимаем от своего лагеря маршрут в противоположном направлении — в цирк его левого истока, по следам убежавших от нас серн. С перевальчика через первый же отрог видим еще один лазурный водоем со странным хоботообразным заливом, а по берегу его ходят серны. Еще одно озеро, которого нет на карте. Значит, о нем и писал Рейнгард! Озеро чудесного небесного цвета. Но что теперь может пленить нас больше, чем то, Ацетукское?
Ацетукское... А правильно ли его так называть? Ведь Мзи — это тоже Ацетукское озеро — его цирк врезан в стены той же Ацетуки. Вернее поэтому говорить об Ацетукских озерах. В районе Теберды есть популярные у туристов Бадукские озера. А у нас будут Ацетукские, и мы сумеем сделать их такими же популярными!
А как различать их по названиям? Прямо хоть номеруй. Нет, это слишком по-канцелярски, к тому же есть уже Мзи — имя собственное. А что, если назвать соседние озера именами первоисследователей? Рейнгард видел оба не нанесенных на карту озера. Вот второе и назовем озером Рейнгарда. Это крупный кавказовед...
А потом здесь побывала Евгения Морозова, первоисследователь Кардывача и обеих Риц. Она ли не достойна быть увековеченной в названии лучшего горного озера? Именно это, красивейшее из Ацетукских, будет называться озером Евгении Морозовой!
Обходим цирк Рейнгарда, провожая снова убегающий от нас табунок серн, и переваливаем вслед за ним в следующий цирк. Мы уже не удивляемся и как должное принимаем, что и в нем сияет голубое око. Все ясно, это одно из озер, упомянутых ботаником Альбовым. В его память теперь будет звучать название: озеро Альбова.
Победа и поражение
Еще один цирк выправлен на карте. Влево идет занятый снежником кулуар, по которому, как кажется, можно взойти на вершину Ацетуки. Это было бы важно, чтобы распутать загадку Рицы, все еще так смещенной на картах. Значит — наверх!
У скал Ацетуки свой облик. Это плиты туфогенных песчаников по нескольку метров мощностью. Круто поставленные, они образуют на склонах обнаженные плоскости, гигантские цельнокаменные чешуи, ровно наклоненные на протяжении многих сотен метров. К вершине выходят обрезы этих пластов — было даже странно при выходе на гребень свободно зашагать по таким пологим торцам, словно по асфальтовому тротуару.
Что нам откроется с края гребневой площадки? Мы не раз уже наслаждались панорамами Абхазии — они раскрывались нам и с Аибги, и с Ахукдарской перемычки, и с пика Кардывач. Но с Ацетуки открылось такое, что заставило вздрогнуть от недоумения!
Здесь было не только то, что ожидалось,— и горно-лесные глуби, и многопланные дали с несколькими барьерами чеканно-ясных альпийских хребтов — не только все это, давно знакомое и в новых сочетаниях по-новому радующее. Нет, в ближайшей долине виднелось что-то несуразное, инородное. В ней лежал, словно положенный сверху и застрявший в склонах, синевато-зеленый поднос, края которого были вырезаны в строгом соответствии с рельефом: выступы в долинках, выемки против хребтиков. Поднос из матового малахита, невероятно выделяющийся в ландшафте, чуждый всему окружающему.
— Так это же Рица!
Да, это была Рица. Рица, впервые видимая мною сверху, а Наташей — вообще впервые.
Всюду в окружающей природе было какое-то равновесие. Тысячевековые процессы на все наложили свой отпечаток и создали: под скалой — осыпь, в устье реки — конус выноса, у конца ледника — морену. И только Рица во всей необъятной панораме, развернувшейся с Ацетуки, выделялась своей полной «неприспособленностью» к ландшафту. Так выглядят только что созданные водохранилища на горных реках — нет ни пляжей, ни устьевых дельт, в воде оказались какие попало участки склонов.
В бинокль на малахитовом стекле просматривалась черная точка и от нее треугольный след, на котором чуть менялась матовость глади. Черточка перемещалась — это была лодка. Живо представил себе Николая Васильевича на веслах...
Но что это за полоса, рыжевато-серая черта над берегом близ истока Юпшары? По ней быстро движется темная черточка... Мы уже слышали, что вчерне готовое шоссе выведено к самой Риде. Неужели это автомобиль? Автомобиль на Рице!
Противоречивое чувство. С одной стороны, радость. Ведь об этом мечтал, планируя оборудование рицынского маршрута для Гипрокура. Десятки, сотни тысяч людей увидят теперь красоту Рицы, разделят с нами, одиночками, это счастье. А с другой стороны, и тревога: сумеют ли люди бережно обойтись с этим сокровищем? Позаботятся ли хозяева Рицы о том, чтобы удобства, создаваемые для посетителей, не исказили девственного облика этой горно-лесной чаши? Кто сейчас хозяин, кто режиссер предстоящего освоения Рицы?
Теперь оглянемся назад. Мы поднялись от озера Альбова — значит, чуть дальше с гребня должен открыться соседний цирк Рейнгарда. Проходим несколько десятков метров, словно по асфальту, по идеально ровным площадкам гребня Ацетуки, выходим над ее страшными гладкими северными отвесами и останавливаемся в еще большем недоумении. Вместо озера Рейнгарда с заливом-хоботком мы видим на дне цирка не сразу узнаваемый молочно-бирюзовый овальный водоем и на берегу крохотную палатку с белым крылатым парусом.
— Что это? Наша палатка? Значит, это озеро Евгении Морозовой? А куда же пропал «Рейнгард»?
Не сразу понимаем, в чем дело. Оказывается, кулуар из цирка Альбова так глубоко врезался в самый гребень Ацетуки, что прорезал в нем борозду «по-за цирком» Рейнгарда. И получилось, что мы вышли над своим лагерем, миновав промежуточный цирк.
Успех превосходил ожидания. Оказаться на гребешке, откуда видны два озера сразу — Рица и Евгении Морозовой! Какой неприступной цитаделью казалась нам отвесная стена Ацетуки снизу, от палатки. И мы сумели ее победить, мы видим свое озеро с вершины!
Я прежде так плохо представлял себе, что за хребтина высится над Рицей с севера и северо-востока. А теперь, глядя с Рицы, мы будем знать, что под вершиной именно этого хребта, по ту его сторону, красуется целое ожерелье Ацетукских озер! Хребет с озерными балконами...
Рица будет курортом, центром туризма. И одним из лучших маршрутов из будущей рицынской турбазы будет поход к Ацетукским озерам!..
Зарисовки и записи сделаны, геологические образцы с гребня взяты. Взволнованные, утоленные, начинаем спуск. Мы настолько окрылены своей удачей, что забываем об элементарных предосторожностях на спуске — не рубим ступенек в плотном фирне, не страхуем друг друга.
Наташа поскальзывается, начинает съезжать по снежнику, кричу ей: «Врубайся молотком!» Она едет сидя, сначала пытается долбить кирочной частью молотка снег, потом падение убыстряется, молоток процарапывает, испахивает в снегу целую борозду, разбрызгивая комья, и вовсе вырывается из рук. Наташа летит вниз, уже распластавшись, молоток кувыркается рядом...
У меня захватывает дыхание — ведь сейчас все будет кончено... Маленькое тельце — оно уже на семьдесят метров ниже меня — со всего разгона вылетает на крупно-каменную осыпь из остроугольных обломков. Кажется, камень раскололся бы от удара о такую баррикаду — я слышу только громкий и краткий крик и вижу, как тело Наташи дважды перевертывается между камнями. Замерла. Недвижима.
Я тоже на волоске. Одно неосторожное движение, и я повторю Наташино падение.
Заставляю себя метрах на двадцати рубить ступеньки в фирне и, лишь когда он становится чуть положе, крупными скачками мчусь к потерпевшей.
Пошевелилась. Жива. Даже пытается встать. Ушиблена — все болит. Грудь и спина в рваных ранах, руки окровавлены, голова в синяках...
Перевязываем чем можем. Говорит, что сможет дойти до палатки сама — никого звать не нужно.
Да, не только в одиночку, но и вдвоем в горы ходить нельзя. С одним несчастье — значит, второй, уходя за помощью, должен бросить больного одного?
С трудом привожу пострадавшую к палатке.
Сурово отплатила Ацетука за удачи этого дня. Еще подумаешь, рекомендовать ли туристам маршрут на такую вершину. Как ни сказочен с нее кругозор, как ни удивительна рассматриваемая сверху Рица, а опасность велика.
Раны у Наташи быстро зажили, и уже вскоре мы могли продолжать маршрут. По округлому гребню, ограничивающему долину Азмыча слева, перевалили к Тихой речке, познакомились с летним филиалом эстонской молочной фермы, совсем в упор любовались торцами ледников Агепсты. По Тихой спустились к Мзымте.
На обратном пути в Поляну усердно мерили террасы, закрашивали по своей легенде рельеф прирусловой части Мзымтинской долины, в том числе и Энгельманову поляну. Уже у курортников Пслухского нарзана узнали финал истории на Юхе. Быть может, не случайно наблюдатель отговаривал нас от маршрута на Северный Лоюб и следил за вами, пока мы там лазили? Он мог знать о поселке нарушителей, но молчал, был запуган, терроризирован ими? Убедившись, что мы при одном взгляде с Северного Лоюба раскрыли их тайну, он поспешно — за один день — пробежал пятьдесят километров до Красной Поляны и сам сообщил представителям власти о нарушителях.
Милиция живо заинтересовалась известием. У нее уже давно были сведения, что в сторону горной части Адлерского и Псебайского районов ведут нити деятельности целой банды, орудовавшей в Абхазии. Но искать эту публику где-то в неведомых горах никак не решались. Теперь положение прояснилось, и немалая оперативная группа на другой же день отправилась верхами на Кардывач и Юху. Часть нарушителей была задержана, часть разбежалась по дебрям и потом еще с месяц беспокоила своими нападениями жителей краснополянской стороны гор. На юхской базе у бандитов было несколько сот голов коз, угнанных в свое время из абхазских колхозов, и даже своя сыроварня...
Этим, к счастью, и исчерпалась «детективная» сторона наших исследовательских приключений.
Так и слышится сердцу, как толща земная упруга,
Как шевелятся швы, не хотят рубцеваться разломы.
Это в недрах смещаются мнущие с хрустом друг друга
Цельнокаменных масс недоступные взгляду объемы.
Заповедные высокогорья
Задания самим себе
В Поляне застреваем из-за нескольких дней ненастья, но нет худа без добра. Пытаемся вчерне обобщать результаты своих наблюдений и... становимся в тупик. Казалось, мы столько видели, подметили, записали, закартировали... Но изложить все это связно не можем: в наших наблюдениях немало зияющих пробелов. Вот целый участок долины Мзымты с непромеренными высотами речных террас. Вот долина с моренным валом. Сюда когда-то доползал язык ледника, и здесь из него вытаивали исцарапанные штриховкой валуны. Но, значит, именно от этого места текли тогда и талые воды, отсюда начиналось речное русло со своей поймой. Десятки тысяч лет миновали с тех пор, река, отзываясь на климатические перемены и на поднятия гор, успела врезаться намного глубже уровня древней поймы. Но участки этой поймы, превращенные в речные террасы, могли сохраниться.
У форм рельефа тоже есть возраст: одни возникли недавно, другие давно. Геоморфологи умеют различать юные, зрелые, дряхлые формы, но и этого им мало: ученые стремятся измерить, там, где это возможно, возраст рельефа в цифрах — например, в тысячах, десятках тысяч, сотнях тысяч лет. А если нет таких данных, то важно устанавливать хотя бы одновременность некоторых былых явлений, например, совпадение древнего оледенения с изменением уровня моря...
Нас интересуют любые речные террасы — следы древних уровней, на которых когда-то рылась река. Но если разыскать такие террасы, которые «прислоняются» к древним ледниковым моренам, возраст речной долины будет увязан со сроками древнего оледенения!
Ловим себя на том, что у нас осталась непромеренной высота Мзымтинской террасы, которая «привязана» к морене, подпрудившей когда-то озеро Кардывач. Этот пробел вынудит нас еще раз идти к озеру... Но разве простительно повторять по нескольку раз уже пройденные маршруты?
Мало ли мест, в которые попадаешь вообще раз в жизни? Да и грех тратить силы, время и средства на повторные посещения из-за своего неумения. На маршруте нужно работать с максимальной концентрацией внимания.
Но как заставить себя при единственном посещении записывать все, что потребуется для последующих выводов? Как застраховаться от пропусков? Ведь пока видишь рельеф в натуре, все кажется понятным, многое и не просится «на карандаш», а потом выясняется, сколько нужных сведений просочилось сквозь пальцы, сколько осталось несформулированного, незарегистрированного…
Понимаем, что нам не хватает опыта.
Заглядываем во взятый с собою том «Полевой геологии» академика Обручева и вдруг постигаем секрет. При полевых наблюдениях нужно как бы заполнять анкету, напоминающую, что следует записать о любом наблюдаемом явлении. У Обручева мы нашли немало таких вопросников для наблюдения чисто геологических процессов. А нам нужны были геоморфологические анкеты, раскрывающие историю рельефа. Что ж, составим себе такие вопросники — ничего, что они будут самодельные; зато в них будут учтены реальные особенности рельефа заповедных высокогорий, в общих чертах нам уже известного.
Например, террасы. Высота бровки над урезом воды. Высота коренного цоколя и его сложение. Мощность и характер речных наносов. Ширина террасной площадки, ее микрорельеф. Состав горных пород в гальках (чтобы судить, из каких мест они принесены рекою). И множество других подобных вопросов по каждому поперечнику речной долины, подлежащему изучению...
Морена. Ее высота, связь с террасами, состав валунов. И все в таком роде. Задания самим себе! Вопросник, напоминающий в поле о цифрах — длинах, ширинах, глубинах, высотах, которые надо промерить и записать, он нам поможет, и мы не пропустим ничего важного, все учтем, все зафиксируем.
Без троп по реке
Как просто все в методике. И как сложно в первом же маршруте, который мы предприняли вверх по долине реки Ачипсе, держа такие вопросники в руках.
Мы уже из учебников знали, что террасы могут идти вдоль русла не только параллельно одна другой. Они подчас расходятся, сближаются, то вовсе прерываются, то выклиниваются, по-разному повышаются и понижаются над руслом. Для того чтобы улавливать все эти изменения, необходимо систематически регистрировать характер поперечного сечения речной долины — брать поперечники.
Появилась ли в долине новая терраса, или изменила высоту старая, мы промеряем поперечник и получаем достоверную, документированную картину: не будет пропущен ни один штрих, важный для толкования истории долины. А наберется серия поперечников с промерами, с описанием обнажений — можно будет проследить, как ведет себя вдоль реки та или иная терраса, на какой высоте подводит к древнеледниковой морене. Если терраса будет подниматься над руслом вверх по реке, это расскажет о недавнем сводовом поднятии ее верховьев — местность кренилась: горы в истоке реки подымались в ходе ее новейшего врезания сильнее, чем в устье. Если террасы разошлись между собою по высоте в среднем течении, а к верховьям опять сблизились — значит, выдвигалась какая-то глыба в среднем течении реки. Логично? Очень. Теперь по такой шпаргалке, кажется, только и совершать открытия.
«Взять поперечник» — звучало просто и убедительно. Но на деле это значило лезть от реки на любое плечо отрога, ко всякому перелому склона. И лезть почти всегда без троп, невзирая на дебри: лианная ли мешанина из ежевики и павоя, напоминающая многослойную сеть колючей проволоки; заросли ли «Родомы» — так презрительно именуют наблюдатели заповедника любые чащи вечнозеленых кустарников — будь то рододендрон или лавровишня. Преодолеваешь и непролазный молодняк, и древолом из рухнувших трехобхватных стволов. Сквозь все это ломишься с анероидом в руках, чтобы взять отметку соответствующего уступа.
Каждый поперечник стоил часа-двух утомительной работы. Иной раз за рабочий день удавалось «взять» всего два-три поперечника, даже в нижней части Ачипсе, где вдоль русла была дорога, а через реку мосты. Выше кордонов заповедника дорога исчезла, мостов и кладок не было, начались несчетные переправы вброд, прыганье по скользким камням, продирание через ежевичники... Только теперь я оценил в полной мере, каково было заблудившимся когда-то туристам, считавшим, что всякая речка выведет к Мзымте, и решившим пробраться руслом Ачипсе по всей его длине.
Сложности нас ожидали не только физического порядка. Получаемые отметки террас далеко не создавали сколько-нибудь стройной системы. Цифры сильно «плясали». Местами уступов оказывалось много, размещены они были беспорядочно, и трудно становилось решить, не оползневые ли это ступени. В условиях дикой лесистости, при сплошном плаще почв было трудно отыскивать древние, когда-то нанесенные рекой галечники. Радовала находка каждой некогда скатанной гальки.
Чем выше, тем грознее становилась долина. Особенно удивлял левый берег — подножия Чугуша и Ассары. На нем почти не сохранились террасы, а большая часть подножий была обрезана крутыми осыпными обрывами. Сначала мы не обратили на это внимания, но потом задумались и сделали важный вывод. Такое обилие круч именно в подножии левого берега означало, что левый склон долины по отношению к правому продолжает несимметрично подниматься.
Вспоминаем геологическую карту. Ведь именно вдоль этих подножий проходит Главный Кавказский надвиг, разлом, по которому древние граниты ядра горной страны вздыблены и надвинуты на значительно более молодые толщи недр южного склона Кавказа. Подвижки земной коры по этому разлому совершались в незапамятной древности. Но крутые, вечно подновляемые осыпи левого склона долины говорили и другое: видимо, и новейшие напряжения, возникающие тут в недрах, особенно легко «разрешаются» в той же древней зоне дробления, омолаживая былой надвиг, наследуя его...
Какое новое ощущение природоведческой зоркости! Мы застаем горы в какие-то ничтожные мгновения их миллионолетней истории, они кажутся нам недвижными. Но теперь мы воочию видим бесспорные свидетельства продолжающихся движений — кренов... Горы начинают словно шевелиться на наших глазах!
Вдоль ряда лощин к Ачипсе спускались крутейшие желоба лавинных прочесов — тут в русле царствовал несусветный кавардак из огромных камней и исковерканных стволов, сметенных когда-то лавинами. Одна из лощин так и называлась Выломанной балкой. Между двумя отвершками речки Рудовой виден был огромный обрыв, с которого ежеминутно срывались приходящие в движение камешки. Живые, неспокойные недра заставляли всю природу жить напряженной, неуравновешенной жизнью.
С крутых обрывов в русло рушились и более близкие обвалы, река яростно набрасывалась на запруды и прогрызала препятствия. Перед одним из древесных завалов мы нашли следы удивительно высокого стояния воды. Мелкая галька и гравий образовали свежую, видимо, только в этом году намытую террасу высотой до семи метров над руслом. На семь метров поднималась вода перед древоломной плотиной! Здесь на короткий срок возникало озеро, но и в течение считанных дней его существования вода успела намыть эту террасу. Крупные камни в успокоенную воду озерца уже не попадали, и в нем отлагалась мелочь — галька и гравий. А ниже временной плотины были следы ее прорыва: озеро, переполнившись, нащупало брешь и ринуло сквозь нее массу воды под семиметровым напором. Как легко такой паводковый вал от прорыва плотины мог оказаться катастрофическим для обоих кордонов, выстроенных в низовьях Ачипсе на самой пойме!
Чем выше по долине, тем меньше становилось обрывков террас. Никакого моренного вала, за которым вверх по течению простирался бы древнеледниковый трог, мы не обнаружили. Могло ли быть, что тут и не существовало ни ледника, ни трога? Вряд ли. Морена была, видимо, размыта, а трог в мягких глинистых сланцах мало отличался от обычного профиля речной долины, какие вырабатываются в этих податливых породах.
А наверное, нередко так разочаровывает природа: исследователь готов встретить всё как в учебных схемах — террасы, морену, трог, — а природа оказывается сложнее и являет взгляду комбинации, вовсе не предусмотренные учебником. Что ж, изучим ее такою, как она есть, — не подтасовывать же факты под концепцию! А может, новые факты помогут улучшить и самую теорию?
Шесть дней трудного пути. Ночлеги под палаточным пологом, где бы нас ни застала очередная ночь... Кончились взятые с собою продукты, и мы кормимся прошлогодними чинариками — буковыми орешками, еще не успевшими сгнить.
Отметка по высотомеру показывала, что уже близко водопады верховьев Ачипсе. Наш взгляд уловил на стволе бука на левом берегу реки большую зарубку. Прохожу вправо — заросшая, но не вызывающая сомнений тропа, методично меченная зарубками. Она ведет косогором правее на подъем к перемычке, соединяющей Ачишхо с Чугушом.
Переходим Ачипсе вброд на правый берег. Здесь тоже зарубка и явный след тропы, поднимающейся на Ачишхо. Используем неожиданную возможность и выбираемся к метеостанции по вновь найденной дороге. Она выныривает из маскирующего ее высокотравья на первую из известных мне тропок Ачишхо перед Острым перевалом. Не чудо ли, что еще даже на этом, столько раз посещенном хребте мне суждено делать подобные находки?
Вернувшись в Поляну, спрашиваю у греков, что же это за тропа.
— Старая на Чугуш тропа. Осман строил. По хребту на Османову поляну ведет.
В державе туров
Чугуш высился на границе района, порученного нам для исследований. Его нужно было посетить, и естественно, что мы воспользовались вновь найденной тропой. Перейдя Ачипсе, она действительно вывела на водораздельную перемычку, ту самую, по которой между Ачишхо и Чугушом бежал поперек продольного желоба главный водораздел Большого Кавказа. Справа покоилась знакомая теперь до мелочей лесистая долина Ачипсе, а слева такая же густолесистая, поросшая пихтами долина реки Березовой[11], впадавшей в Белую.
Тропа не один километр вела нас по самому водоразделу Большого Кавказа, по коньку между покатостями Кубани и Черноморья. Такой важный, общекавказского значения водораздел — и никакого величия. Ноги давно уже ощутили, что на гребневой тропе то и дело попадаются щебнистые высыпки черных глинистых сланцев. Это подтверждало, что хребет, словно дамба, пересекает здесь поперек тот же огромный сланцевый желоб, по которому текут и нижняя Ачипсе, и Мзымта выше Красной Поляны, и Аватхара, а северо-западное продолжение того же дола дренируется рекой Березовой. Получалось, что продольный передовой желоб переходил здесь с южной покатости Кавказа на северную, а главный водораздел соскальзывал с вершин Главного хребта и пересекал дол так же поперек, как и Ахукдарская перемычка от Кардывача к Ацетуке. Там по поперечному «мосту» проходил водораздел Мзымты и Бзыби, а здесь на перемычку угодил даже главный раздел вод Кавказа! А ведь она куда ниже Ахукдарской. Та — луговая, кругозорная, гордая. А эта, ачишхо-чугушская связка, и совсем не поднимается выше границы леса. Сланцы тут были так податливы, а новейшие поднятия так слабы, что пологий гребень имеет высоту всего 1600—1700 метров. Тропа идет в густом пихтарнике, и дали-глуби долин Ачипсе и Березовой лишь угадываются за чащами стволов.
В низшей точке пихтового гребня обнаружили развалины старого Чугушского лагеря — он стоял на перевальном перегибе тропы из долины Ачипсе в Березовую. Двое суток просидели в этом лагере, пережидая проливной, казалось, нескончаемый дождь (выручил палаточный тент, образовавший в сочетании с развалинами подобие шатра).
Благодарные ненастью за особенно острую чистоту и ясность следующего дня, круто поднялись лесом и криволесьем на водораздельный отрог Чугуша. Подъем вынес нас на привольное и пологое луговое плечо, выдвинутое в долину мысом. Десятки раз с тихой завистью смотрел я на него с Ачишхо. Море цветов окружало груды камней — развалины старых Османовых балаганов. Неплохой вкус был у вездесущего Османа!

Краснополянские старики немало рассказывали мне об этом предприимчивом человеке. Именно Осман построил первую колесную дорогу мимо Эстонки к устью Ачипсе. По ней возили тес и бревна для строительства Охотничьего дворца.
— Где же он теперь, этот Осман?
— О, это человек был злой и храбрый. Тропы хорошо строил, лес хорошо рубил, хорошо продавал, хорошо наживался. Никто его не любил, но все уважали.
— За что же уважали?
— Богатый был, хороший охотник был, на все горы ходил, на всех вершинах был, даже на Агепсте был. (Осман, никакой не альпинист, покорил Агепсту? А мы-то рекламировали ее как неприступную, никем до сочинского альпиниста Пьянкова не побежденную!)
— На всех вершинах был Осман, не разбился. А залез на дерево стряхивать черешню, упал и разбился. Такая судьба потому, что он злой был, хотя и храбрый...
Уже на подъеме к Османовой поляне нам стало попадаться множество турьих следов: россыпи «козьих орешков» — турьего помета. А вот и сами туры. По верховьям речки Туровой раздался дробный стук камнепада — это скакал спугнутый нами табун. Как приятно было насчитать в нем сразу сорок голов! Вскоре заговорили камни и слева от гребня. Ого, да здесь население еще гуще! Двадцать, пятьдесят, сто, сто пятьдесят шесть голов туров пришло в движение при нашем появлении в правом истоке Березовой! Никогда еще вокруг нас не дышал такой девственностью, таким обилием зверя заповедник.
Узел. Здесь перемычка, пришедшая с Ачишхо, впритык причленяется к Чугуш-Ассарскому хребту. Вершина Чугуша высится не на главном водоразделе Кавказа, а на его северо-западном отроге, хотя и более высоком, чем самый водораздел.
Как, оказывается, условны наши представления о «главном хребте». Мы привычно связываем с этим понятием и его осевое положение в горной системе, и наибольшую высоту, и водораздельное значение. Но вот перед нами участок, где у Большого Кавказа в сущности нет единого главного хребта. Он прорезан здесь верховьями Березовой, а еще восточнее — верховьями Лауры, Бзерпи, Пслуха, распался на отдельные звенья, так что главный водораздел Кавказа не один раз, а многократно соскальзывает с хребта на хребет.
Выходим на гребень Чугуша. Под ним дикие обрывы, коченеющие тела ледников, в том числе один отсутствующий на карте; далеко внизу глубокая луговая, а еще ниже и дальше лесистая долина верховьев реки Киши. И тут продолжаются наши «малые открытия»... На зубчатом гребне напористый, ни на секунду не стихающий ветер — прячемся от него за отдельные выступы скал и каменюки гребневых россыпей.

Справа к Ассаре зубцы становятся круче, занозистее, свирепее. С картой в этой стороне творится что-то совсем неладное: отсутствует встающий слева огромный пик, едва не достигающий трех километров высоты... Кажется, еще один останец ледникового обтекания. Займемся этим районом при восхождении на Ассару.

Мы на гребне Чугуша! Под нами та громада, которая так поразила взгляд еще при первом моём подъеме на Ачишхо. Как нечто грозное, недоступное, загадочное вставал тогда Чугуш. Думалось, что и невозможно покорить его. Заповедное царство, куда ни маршрутов, ни троп...
Все оказалось реальнее и проще. Тропы нашлись, а некоторые внешние приметы заповедности имели вполне прозаический облик. Даже гребень был усыпан орешками турьего помета. Большой новизны мы тоже не испытали — это после того, как побывали и на Лоюбах, и на пике Кардывач, и на Ацетуке, и на стольких Аишхах.
Только даль отсюда была особенно широка. День выдался ясный, без облачка, море синело трехкилометровой стеной, как на ладони был виден берег — в мерцающей дымке угадывалось скопление зданий Сочи. Ну, конечно, Сочи — ведь с вершины горы Батарейки, что поднимается среди курорта, в такую погоду превосходно виден Чугуш.
Работали на гребне до вечера, так что добраться до высшей вершины времени не хватило — были от нее метрах в трехстах по горизонтали.

Смешно сказать, но одним из главных по своей новизне впечатлений, полученных на Чугуше, был для меня... вид на Ачишхо! Да, на десятки раз посещенный, обойденный, вдоль и поперек излазанный Ачишхо. Он предстал перед нами настолько в новом повороте, что казался попросту неузнаваемым. Его гребни — и Краснополянский и Водораздельный — мы видели теперь в торец, их зубцы совсем не различались, а силуэт хребта создавался перпендикулярным гребнем, состоящим из плавных, мало отчлененных одна от другой вершин. Округлый расплывшийся каравай... Не выкроены ли размывом все эти гребни из единого плоскогорья, как бы взбухшего при последнем вздохе горных поднятий?

Геоморфолог! На любой хребет ты обязан посмотреть со всех его сторон: всякий поворот может раскрыть новую тайну, подсказать новые мысли.
Проводили величаво спокойный закат. Спешим вниз. Снова спугиваем турьи табуны, те же, что и на подъеме; в одном из них насчитываем двести голов. Уже в темноте добираемся до Османовой поляны... А наутро, покинув Чугушский лагерь, спускаемся тропой вдоль левого склона долины Ачипсе, высоко над ее руслом, которое нам уже так знакомо, пересекаем речку Туровую... На осыпях ее берегов выходят соленосные свиты. Чугушские туры постоянно спускаются сюда лизать солонцы. Вот и при нас здесь «лечится» табунок в полтора десятка голов. Но что нам теперь полтора десятка, если наверху мы видели их сразу до двух сотен!
Под самой осыпью, под огромным вздыбленным скально-щебнистым откосом переходим речку Рудовую, чуть ниже слияния обоих ее отвершков. Совсем без труда минуем Выломанную балку. Вот и кордоны наблюдателей — верхний, нижний — в них мы уже как дома, в милой крестьянской обстановке, у гостеприимных хозяюшек. Во дворе копошащаяся детвора, поросята, котята...
С верхнего кордона заходим еще к одному «нарзану». Я читал об этом источнике еще у инженера Сергеева, который исследовал его в 1890-х годах. Инженер пришел сюда, в старочеркесское аулище Рых-Айя, с партией рабочих. Они очистили местность от травы, разредили лес, отделили минеральные воды от пресных. Источник давал сто двадцать ведер в сутки. На месте старого, еще не сгнившего колодца построили колодец-бассейн, увеличили приток до ста восьмидесяти восьми ведер...
Пятого октября 1899 года в глухое урочище пожаловали высокие персоны: министр земледелия и государственных имуществ Ермолов, гофмейстер императорского двора и главный устроитель Черноморского побережья Абаза, черноморский губернатор генерал-майор Тиханов и множество других. Священники отслужили молебен и освятили источник. После этого его целебные качества, равные достоинствам известной французской воды Виши, получали законную силу.
В завершение церемонии «открытия» Ермолов обещал «испросить высочайшего соизволения именовать источник Николаевским». Устроители Романовска надеялись, что источник с царским именем окажется бальнеологической базой курорта. Но и курорт и источник зачахли. Можно ли было, тем не менее, краснополянским краеведам не посетить этого места?
Несколько сотен метров, путь мимо огромного камня, на котором укоренилось крупное дерево, и вот среди дремучего леса у самой тропы видны остатки сооружений: кирпичный бассейн с застойной, едва сочащейся водой. На вкус — приятная, кисловатая, слегка газированная. Часть вод уходит мимо бассейна и сочится по склонам; кругом сыро и грязно, много ржавых натеков. Грязь, замешанная на минеральной воде.
Сейчас вода сочится так слабо, что никак не обнадеживает в качестве «главной бальнеологической базы курорта».
Ступени науки
В Красной Поляне по-прежнему люблю беседовать с туристами — теперь такие беседы стали проводить по вечерам под открытым небом у большого костра (для пущей романтичности!). Забавно, что мне все труднее вести их. Как просто было, когда сам знал только про Ачишхо с Аибгой да один маршрут на Псеашхо — доза, вполне понятная и посильная туристам: они слушали об этом, как о реально осуществимом; многие приезжали следующим летом и действительно выполняли такую программу экскурсий. Маршрут Кардывач — Рица венчал все...
А теперь — как было не рассказать о Кардывачском узле с Лоюбом и Синеоким, об Ацетукских озерах и главном маршруте через заповедник? Но для туристов это было уже перегрузкой. Они начинали сомневаться в осуществимости таких восхождений, и я чувствовал, что верили мне меньше, чем раньше,—трудно было представить нашу тройку в роли этаких летучих голландцев, носящихся по десяткам вершин, словно на крыльях.
«Летающие по вершинам...» Такой комплимент отпустила нам одна восторженная туристка. Как легко произносится эта красиво звучащая фраза... А передашь ли людям, что все наши Чугуши и Кардывачи, что каждая побежденная вершина — результат большого труда и напряжения, итог сотен медленных — шаг за шагом — подъемов, долгих часов одышки и сердцебиений (иногда за плечами полуторапудовый рюкзак — никакой темп, никакие частые передышки не спасут от перенапряжения сердца). Передашь ли, что это многие десятки люто холодных ночей под искристыми звездами, что это сбор топлива, раздувание костров, варка крутых каш и густых супов, забивание кольев и натягивание палаток в часы, о которых в пути думалось, как о часах отдыха? В сумме — это месяцы в облачном тумане, в мокрых травах, под дождем, с промокшими ногами, зачастую в разбитой обуви. Но это неизбежная и совсем не страшная плата за наслаждение главным. Повторяющиеся неприятности мысленно выносишь «за скобку», как общий множитель в алгебре, и забываешь, перестаешь о них рассказывать. Зато именно этим куплено право говорить о десятках покоренных вершин, сознавать, что кристаллизуются все более полные знания о природе, о рельефе исследуемого района.
Кристаллизуются... То ли это слово? У процесса исследования и познания местности оказалось немало своих логических этапов, последовательных ступеней. Похоже было на долгое восхождение с ошибками, зигзагами, возвращениями, поисками пути. Первой ступенью изучения было в сущности лишь отыскание различных деталей известных из учебников, опознавание этих явлений в природе.
Вот речная терраса, вот конус выноса, вот переметный ледник. Это — регистрация фактов и лишь первые догадки о причинах происхождения наблюдаемых террас, обрывов, пиков. Это уже наука, но как еще мала тут доля подлинного исследования! Наши первые маршруты и были в сущности такими регистраторскими. Мы ходили, накапливали наблюдения... Но чем внимательнее мы это делали, тем чаще поднимались и на вторую ступень исследования — сопоставляли уже известные факты, группировали сходные явления в типы.
Мы научились различать несколько видов зубчатых гребней — симметричные и несимметричные, с дальнейшим подразделением в зависимости от наклона слагающих их напластований.
Полого округлое плечо Османовой поляны на Чугуше навело еще на одну мысль: альпийским такой гребень не назовешь. Он оглажен, лишен зубцов. А разве не такие же гребни видели мы еще в десятках мест: на Грушевом хребте у Аишха, на Кутехеку и Ахук-Даре? А верхние гребневые поляны Ачишхо? Впрочем, нет. Там среди полого округлых луговин еще торчат десяти-двадцатиметровые гребешки, уцелевшие от разрушения. Значит, можно не только объединить все подобные округлые формы в единый тип подальпийских гребней (они и на высоких уровнях были всегда ниже альпийских), но и разделить его на подтипы: гребни совсем округлые и гребни с недоразрушенными остатками пирамидальных зубцов — карлингов. Расшифровка возникновения форм рельефа знаменовала переход на третью ступень научного исследования.
Живые наблюдения и тут подтвердили то, что мы знали из учебников: оледенение превратило верховья долин в ледниковые цирки, изрезало кресловидными чашами разделяющие их гребни и преобразило эти гребни в зубчатые альпийские цепи карлингов. На более высоких уровнях, там, где и сейчас в силе оледенение, такие гребни продолжают существовать. Но десятки тысячелетий тому назад оледенение было более мощным, так что ледниковые цирки зародились и на более низких хребтах. Они вгрызались с двух противоположных сторон в гребни. Разделявшие их стенки разрушались, смежные цирки сливались, и гребень оказывался полого округлым: здесь торчали лишь остатки недоразрушенных карлингов, как у метеостанции Ачишхо. А если дело заходило дальше — съедались и последние остатки карлингов, — возникал второй подтип: округлые подальпийские гребни в чистом виде.
Формы рельефа стали для нас жить во времени. Ведь любого встреченного человека мы застаем в определенном возрасте. Так и всякая форма рельефа несла на себе отпечаток достигнутой ею стадии развития. Существование этих стадий открыл еще знаменитый американский геоморфолог Дэвис. Но уметь различать их в природе самим — это было для нас новым этапом роста, подъемом еще на одну ступень логики научного исследования.
Все ли учтено приведенным объяснением? Почему подальпийские гребни приурочены к определенным высотам — к 1700—2200 метров? Да, это нижний предел распространения ледниковых цирков, сформированных былым оледенением. Именно эти гребни имели больший срок для полного разрушения своих зубцов. Но что было первопричиной исходного различия в высоте сохранившихся верхних альпийских гребней (2600—3200 метров) и нижних, ставших подальпийскими? Мы упирались тут в какую-то загадку. Перед нами вставала еще одна, следующая ступень научного исследования, взобраться на которую мы пока не могли. Мысль о расчленении единого плоскогорья, возникшая при взгляде на Ачишхо с Чугуша, была лишь первой догадкой.
Нет, совсем не полет по вершинам, а долгий подъем по склонам, со ступени на ступень наблюдений, анализа, сопоставления фактов. И только в итоге, когда все пути позади,— полет воспоминаний о посещенных вершинах, полет суммирующей мысли по высотам научного обобщения...
Петрарка и Пришвин
Главный водораздел заповедных высокогорий Западного Кавказа от Чугуша до Кардывача — таков был объект наших исследований. Два звена этого барьера оставались еще непосещенными: массив Псеашхо и вся цепь вершин Ассара — гора Воробьева — Дзитаку, связывающая Чугуш и Псеашхо. У нас зародилась дерзкая и не совсем разумная мысль — пройти гребнями от Ассары к Дзитаку в обход диких верховьев Лауры.
Наблюдатели на кордоне Ачипсе показывают на начало тропы на Ассару, а об остальном пути ничего сказать не могут: пройти там трудно, и поэтому сами они никогда там не ходили.
Тропа, по которой мы двинулись, ведет по крутому коньку отрога, разделяющего долины Ачипсе и речки Ассары. Щебнистые взлобки, дубняк с азалеевым подлеском. Крутизна такая, что вьючная лошадь здесь не пройдет. Мы несем на себе пожитки и провиант на десяток дней трудного пути. Килограммов по тридцать у нас с Володей, да не меньше двадцати четырех у Наташи. При такой крутизне и грузе подъем оказывается изнурительно трудным. День выдался жаркий. Свежестью горной прохлады и не пахнет.
Почему наблюдатели не посоветовали нам взять с собою воды? Ведь путь по гребню держит нас в наибольшем отдалении от любых родников, а вода встретится нам только за гребнем Ассары.
К счастью, кругом много черники, лесной черники — «кавказского чая»[12], густой и рослой, в человеческий рост! На ветвях гроздьями висят сизовато-черные ягоды, иногда матовые, иногда блестящие. На припеке бывают такие крупные, что кажется — чем не виноградные? Накидываемся на водянистые, сладковатые ягоды — они помогают время от времени превозмогать жажду.
Почему-то на этом отроге Ассары, как и на краснополянском Ачишхо, совсем нет зоны пихт. Идем сплошным буковым лесом — это еще больше усиливает однообразие пути. Тропа еле видная. Да и кому тут ходить? Раз в год наблюдателям при учете туров?
Дело клонится к вечеру, а мы не достигли еще и криволесья. Придется заночевать прямо на отроге. Неуютный ночлег без горячей пищи, без чая.
Сбрасываем рюкзаки. Спускаемся с Наташей метров на пятьдесят вбок, огибая полосу кустарников, в поисках более уютного места для бивака.
Огромный бук. Под ним сравнительно ровная площадка, взбугренная только узловатыми корнями могучего ствола. Чем не место привала?
— Наташа, вода!
В одном месте корни образовали замкнутую впадину, ванночку, в которой еще с прошлой недели сохранилась дождевая вода. Пробуем ее на вкус с ладони. Гниловатая, застойная — в ней «настоялись» и листва и мелкие прутья... Пить чай из такой жидкости, может быть, и не захочется. Но суп или кашу сварить, вероятно, можно.
Что ж, сходим за вещами и — все-таки у воды! — организуем под этим буком ночлег.
Поднимаемся к Володе взять вещи, а он уже их распаковал, расчистил неплохую площадку на самом гребне, притащил несколько коряг и разводит костер. Нашим намерением переселяться куда-то вниз недоволен. Когда так тяжел подъем, не хочется расставаться ни с одним метром завоеванной высоты. Ну что ж, спорить не стоит.
Палаточный полог решили не натягивать. Беру два котелка, кружку и еще раз спускаюсь к буковой ванночке с водой.
Смеркается. Таинственная хмуроватая тишина в кустах. Величаво простерлась крона великана дерева над пепельно-серой колонной ствола. В лесу остро-кисловатый запах — кажется, что пахнет прелой листвой, но мы уже знаем, что этот специфический «аромат» издает ее житель — червячок, так называемый вонючий кивсяк. Нам и этот запах стал теперь приятным, родным. Буковый лес. Пахнет кивсяком. Значит, мы дома.
Наливаю кружкой воду из корневой ванночки, стараясь не взмутить придонный ил. Набирается два котелка рыжеватой воды. В последнюю кружку зачерпнулась уже коричневая жижа.
Тихо взбираюсь обратно к задымившему костру. Осторожно, чтобы не пролить ни капли драгоценной рыжей воды, вешаю оба котелка на палку и укрепляю ее над костром через две рогульки.
Совсем смерклось. Тишина, лишь изредка нарушаемая далекими захлебывающимися криками сов. И вдруг в тех самых кустах, где я только что наливал котелки, раздается шум и треск, словно от движения какого-то крупного зверя. Это не шаги, а прыжки. Сучья ломаются и хрустят под резкими рывками. На время шум стих — видимо, зверь остановился в недоумении. Потом раздался его голос — грозный, сиплый, рыкающий лай, басистый кашель с хриплыми раскатами. Кто это? Наш опыт еще так ничтожен — ведь мы не знаем голосов ни медвежьих, ни волчьих, ни рысьих.
Но это рыкание разгневанного зверя (не тем ли он рассержен, что обнаружил ванночку — быть может, его единственный в этих местах водопой — пустой?), этот бас своим тембром напоминал нам голоса львов и тигров за решетками зоопарка. Только тут голос был отрывистее, раскаты короче.
Единственное, что мы могли предположить: перед нами барс, точнее — серый кавказский леопард. Мы знали, что несколько семей этого страшного животного еще существует в глубинах заповедника. Встречи людей с барсами были крайне редки. Наблюдателей обязывали зарисовывать любой след барса. Однажды был найден медведь, задранный барсом.
Два молодых человека и девушка, вооруженные только тремя геологическими молотками,— что мы могли сделать, встретив такого грозного зверя?
— Веселее костер!
Хорошо, что Володя притащил много сушняка. Кто знает, пусть зверь и примолк, не будет ли он нас сторожить? Каково было бы уходить от костра в ночную тьму искать новые коряги на топливо? Бросающий в дрожь сиплый рык мог раздаться в любое мгновение снова.
Костер пылал, и в его свете окружающая тьма сгущалась в непроницаемые стены. Разглядеть зверя, если бы он даже и вышел из кустов, было немыслимо. Мы еще с полчаса прождали появления зловещего гостя, а потом принялись уплетать жидкую гречневую кашицу, сваренную на настое из буковой листвы. Каша все же получилась съедобная.
Как быть дальше? Мы достаточно измучены подъемом и могли бы непробудно заснуть тут же. Но спать, прослушав такую басистую колыбельную хищника? Решаем по очереди дежурить у костра для поддержания хотя бы скромного огня. Первым бодрствует Володя, а мы с Наташей быстро проваливаемся в глубокий сон. Показалось, что через две минуты, а на самом деле через два часа Володя разбудил меня и, улегшись сам, немедленно захрапел.
Друзья спят. Таинственный ночной лес. Черный мир и в центре его этот единственный огонек. Где-то бродит или притаился в засаде неведомый облаявший нас зверь. Экономно подбрасываю в костер сушняк, его должно хватить до рассвета. Решаю на досуге перезарядить фотокассеты и лезу в карман рюкзака. Что это? Книжка. Фу, как нелепо! Идем в такой трудный поход и не разгрузили рюкзак от лишней тяжести — тащим с собою целую книгу...
Это оказался Пришвин — «Женьшень» и еще несколько рассказов — чтение для такой обстановки вполне подходящее. Справившись с кассетой и поддав огонька, погружаюсь в описание дальневосточного леса, его зверей и ручьев. Как кстати, вот место, где рассказывается о барсе, о том, что этот зверь обманывает охотника и сам следует по его стопам. Не окажемся ли и мы назавтра в таком положении, что обрычавший нас барс пустится нас же сопровождать?
Уже начинало светать, когда я разбудил Наташу дежурить и показал ей в назидание соответствующие строки Пришвина о барсе. Еще через два часа все мы были уже на ногах, доели вчерашнюю кашу и вновь пошли на подъем. Иногда оглядывались — не сопровождает ли нас зверь по пришвинскому рецепту. Выйдя на луга, окончательно убедились, что «конвоя» нет. У первых же снежных пятнышек утолили жажду.
Не буду описывать новых непривычных поворотов, в которых с лугов Ассары открылись нам уже знакомые панорамы, выявляя то тут, то там не распознанные нами ранее детали — пазы дополнительных лощин, изгибы хребтов, положение лесных полянок. Гораздо больше/нового обещал гребень, с которого должен был открыться северный склон.
Его кручи разверзлись перед нами, и мы снова почувствовали себя в роли открывателей нового, неизведанного. Это был мир ледников, озер и вершин, опять, как и на Кардываче и на Рице, ничего общего не имевший с изображенным на карте. Сомнений не было: топографы девяностых годов, создавшие в остальном великолепную одноверстную карту Кавказа, просто не побывали в этих местах и заполнили оставшиеся белые пятна вымышленным рельефом.
Мне уже с Ачишхо десятки раз приходилось наблюдать поднимающуюся над Ассарой вершину, похожую на крупный зуб. На карте она была показана торчащей на главном гребне — значит, ее наносили, глядя с Ачишхо. Но однажды я увидел от метеостанции, как облака залегли между Ассарой и этой вершиной, подчеркнув, что она расположена за Ассарой, севернее, обособленно от нее. Не тот же ли пик мы видели с Чугуша? Конечно, именно его. А теперь нам было видно, что гребень, на котором мы стояли, отделялся от одинокого пика обширным луговым трогом — явным седлом древнего переметного ледника. Таким образом, и этот пик был останцом ледникового обтекания. Его пришлось сместить на карте почти на километр к северо-востоку с главного гребня, а на дне трога обозначить скромное древнеледниковое озеро.
Мы первые находим место безыменному пику на уточненной карте и определяем его высоту приблизительно в 2800 метров[13]. Разве не наше право предложить имя этой вершине? С нами в рюкзаке путешествует томик Пришвина; его мы читали ночью у костра, переживая соседство с барсом...
— Давайте назовем эту «сдвинутую» нами вершину именем Пришвина!
Хорошая идея. Именно в заповеднике должна красоваться гора, носящая имя этого певца природы, поэта лесов и оленей, ручьев и света... Пик Пришвина. Озеро Пришвина...

На северных склонах Ассары находим еще несколько не показанных на карте ледников. Но особое наше внимание привлекает одна долина восточного склона — неожиданно глубокая, троговая, с чудесным луговым цирком наверху. Это долина безыменного правого притока Лауры. С нее удивительно ясно просматривается весь Псекохо и тропа Бзерпинского карниза. Прямо на нас смотрит дико обрывистый фас горы Перевальной, а под ним видны трущобы дзитакского истока Лауры. Над всем этим в странно косом повороте громоздятся все известные нам Псеашхи. Картина страшная по обилию неприступных круч. Так новы углы зрения на уже знакомые горы, так доказательны разгадки некоторых сложных узлов. Вряд ли с какой-нибудь иной точки стало бы настолько ясно, как происходил перехват Озерной долины Дзитаку ручьями бассейна Лауры.
Метров на двести ниже гребня находим удобную нишу в камнях и укрываем ее палаточным пологом. До леса сотни метров спуска. Поэтому разжигаем смолистый рододендроновый сушняк. Он горит с треском. Брызги смолы рассыпаются, как бенгальские блестки.
Под нами глуби и кручи бассейна Лауры. Кем и когда занесено сюда это столь по-латински, по-западноевропейски звучащее слово? Не эстонцы ли его принесли? Нет. На военной карте 1864 года, то есть задолго до прихода сюда эстонцев, среди всех старочеркесских «Ачишхо», «Аишха» и «Псеашхо» именно эта река называлась Лаурой. Не созорничал ли какой офицер, составлявший карту, — взял да и написал тут имя своей возлюбленной или героини из литературы?..
Лаура. Предмет мечтаний и вдохновенных сонетов Петрарки. Я помню гравюру, где среди диковатого горного ландшафта идет озаренная сиянием девушка в белых одеждах — Лаура, а к ней молитвенно простирает руки одетый в черное — в плащ ли, в рясу ли — влюбленный Петрарка...


Нам в своих полевых записях предстоит десятки раз упоминать этот цирк и выводящую из него безыменную троговую долину притока Лауры. Исследователи часто применяют в таких случаях временные, ни к чему не обязывающие названия; подчас эти названия бывают и шуточные, без претензии на их введение в географию — вроде «балки Промокательной», «лощины Потерянного ножа» и тому подобных.
Безыменный приток стремится к Лауре. Петрарка простирает руки к Лауре. Как бы он был счастлив, узнав, что имя его стало рекой, вечно текущей к Лауре! Река Петрарка, долина Петрарки. Условное название появилось и укоренилось в наших полевых дневниках.
Вечер в цирке Петрарки. Псеашхо окутан причудливо сгруженными, поминутно перегруппировывающимися облаками. Они располагаются в пять-шесть планов, шторами, у каждой свои отсветы карминных, алых, лиловых тонов. Лучи закатного солнца проходят между этими кулисами и посылают к Псеашхо лишь отдельные пучки света, словно розовые кинжалы.
Так только в театре бывает, когда прожекторы по воле перестаравшихся светотехников заставляют светиться различными красками разные планы сцены. Им не веришь, нагромождение тонов кажется неправдоподобным, раздражает. Но тут была не сцена, а неподдельная жизнь. Цвела феерия красок, изумляла и их многоплановость и поминутная смена, происходившая вместе со смещениями облаков.
Мы уже видели сотни горных закатов. Можно ли было предположить, что природа еще способна нас так ошеломить?
Пик Псих
Утром в путь по гребню. В вершине цирка Петрарки на главном водоразделе поднимается еще один пик, явно более высокий, чем обозначенная на карте Ассара. Ее высота 2631 метр, а этот ее сосед достигает, по нашим измерениям, почти 2700 метров[14].
Взбираюсь на вершину раньше спутников. Передо мною метрах в пяти возникает остолбеневший круторогий тур. Смотрим друг на друга в упор. Он гневно топает передней ногой, свистит и одним броском с поворотом в воздухе скрывается под обрывом. Оттуда дробным горохом застучали камни — это поскакал спугнутый сигналом сторожевого козла табунок голов на двадцать.
Вершина видная, строим на ней каменный тур (башенку) и вкладываем в щель сообщение о том, что именуем ее в своих записях пиком Геоморфологов. На северном склоне пика видим и описываем еще один не нанесенный на карту ледничок.
Трогаемся в путь дальше по хребту. Спуск становится все более крутым и наконец таким, что с нашими тяжелыми рюкзаками мы уже не можем держать равновесие. Снимаю рюкзак и отправляюсь на разведку налегке. Едва вишу на отвесных уступах и без груза. Торчащий перед нами крутой и острый, как игла, жандарм не только преграждает нам дальнейший путь по гребню, но не дает преодолеть этот участок и в обход. У жандарма и с боков отвесы по сорок, по семьдесят метров — такие без высокой альпинисткой техники не преодолеешь. Смешанное чувство восхищения и ужаса перед разверзшимися пропастями. Бессилие, обида, что так нелепо срывается наше намерение пройти гребнем, через гору Воробьева[15] к Псеашхо.
Возвращаюсь к Володе с Наташей. Всматриваемся в зубцы, видные за первым жандармом, и убеждаемся, что было легкомыслием планировать и дальнейший путь по этому гребню. Острым топором, который поставлен вверх лезвием, выглядит отсюда темно-серая трапеция горы Воробьева. Возможности обойти ее нет ни справа, ни слева. Предлагаю вернуться и считать маршрут несостоявшимся.
Настроение падает. Кручи, над которыми мы висим, кажутся теперь еще страшнее, а наши движения становятся все менее уверенными. Как тянет вниз, как качает человека двухпудовый рюкзак, как лишает равновесия... Вынуждены двигаться на четвереньках, напрягая волю, чтобы не поддаться деморализации. Метров пятьдесят тяжелого скального подъема.
Разве путь стал опаснее? Ведь сумели пройти здесь на спуск, а это еще труднее, и, однако, шли, как люди, на двух ногах. Так размагничивает и демобилизует неудача, так легко потерять себя в опасном положении.
Выбираюсь на пологое плечо. С облегчением сбрасываю рюкзак и сажусь, переводя дыхание. Можно снова чувствовать себя человеком. Рядом улыбается тоже снявшая рюкзак Наташа. Как легко дышится после перенесенного нервного напряжения!
Оглядываемся. По совсем ровной площадке по-прежнему на четвереньках ползет нервно дрожащий Володя. Падать уже давно некуда, но он все еще судорожно цепляется руками за камни, ощупывает их прочность, тяжело дышит и произносит отрывистые проклятия в адрес любого шаткого осколка.
— Володя, что с тобой? Вставай, уже не страшно!
Он посылает нас к черту — никогда еще такого не было — и продолжает ползти, нисколько не заботясь о сохранении человеческого облика. Господи, что это с ним? Решаемся повысить голос и просто прикрикнуть, чтобы взял себя в руки — ведь этак можно распустить себя до полного нервного расстройства.
Окрик действует — спутник садится и решается снять рюкзак. Физическая разгрузка успокаивает и психику.
Постепенно Володя перестает дрожать и уже минут через пять, все еще смущенный, шутит вместе с нами насчет своего и общего нашего «психования»...
С досадой смотрим на жандарм, преградивший нам путь. Что мы в силах сделать, кроме как обозначить его на исправляемой карте и в отместку как-нибудь похуже обозвать? Наносим к северо-востоку от пика Геоморфологов маленький треугольничек и пишем около него: пик Псих...
Идем обратно. На узел Ассары и отрога, по которому идет тропа, выйдет всякий, кто будет подниматься на этот хребет. Решаем оставить здесь свой след. Строим еще один каменный тур и вкладываем в него жестяную коробочку из-под бульонных кубиков. В ней длинная записка, в которой сказано о проведенной нами работе, о глазомерных исправлениях карты, о новых ледниках, о пике Пришвина и пике Геоморфологов. Чтобы не было недоумения, на оба пика указаны компасные направления (азимуты). Не удержались и написали о том, что в своих записях условно назвали приток Лауры Петраркой. В конце записки порекомендовали свое лагерное место с каменной нишей, дали и на него азимут, примерное количество шагов. Упомянули, что в нише оставлена сухая растопка, спички, соль и крупа.
Спуск прошел быстро. Барс так и не встретился. В одном месте из-под наших ног в панике выкатился мячом небольшой темно-коричневый кабан.
В караулке рассказываем наблюдателям о слышанном голосе зверя. Нас утверждают в уверенности, что мы слышали именно барса.
Свидание с орлом
Делаем еще одну попытку пройти в верховья Лауры. До устья Бзерпи, оказывается, есть хорошая тропа. В устье балаган — лагерек охраны. Здесь ночуем и отпускаем лошадь — Георгиади поведет ее назад к Ачипсе и по главной тропе заповедника пойдет в Холодный лагерь, где и дождется нас.
Ночь теплая, звездная, напоенная рокотом Лауры, которому вторит более скромное воркование маленькой Бзерпи. На дне долин у ночи свои краски, свои запахи. Сколько звезд — море неподвижных, а есть и падающие: вон просыпался целый сноп блесток — метеорный дождь. А это что за порхающие искры? Летающими звездами полон весь лес — они возникают, перемещаются, гаснут. Погнаться, схватить? В руке трепещет крохотный жучок-светляк с сияющим брюшком-лампочкой... Идем за водой, и вдоль тропы с обеих сторон, словно выстроившись в пары, движутся мигающие светлячки, целое факельное шествие.
Отсюда делимся на два подотряда. Мы с Володей отправляемся вверх по Лауре, чтобы подняться по ее дзитакскому истоку в Озерную долину Дзитаку. Наташа с присоединившимся к нам туристом — моим старым другом Игорем Стрекозовым — поднимется без тропы вверх по Бзерпи, чтобы распознать, до какого места спускался по этой долине язык переметного Прауруштенского ледника. Игорь немало путешествовал по краснополянским горам, так что на него положиться можно, как, впрочем, и на Наташу — она уже вполне освоилась с ориентировкой в горах. Это ее первый вполне самостоятельный маршрут. Наташа и взволнована и обрадована. Она сама ведет человека по бездорожной дикой долине и будет ее исследовать.
Нам говорили, что вверх по Лауре от устья Бзерпи шла когда-то малозаметная охотничья тропа. Видимо, она так заросла, что мы не смогли обнаружить никаких ее признаков. Вынужденные ломиться по целине, воевать на крутейшем склоне с дикими зарослями понтийского рододендрона, мы прошли за день только два километра. На следующий день добрались до бурной речки, текущей с массива горы Перевальной, и у се устья убедились, что дальше прирусловые теснины Лауры тоже неприступны. Решили выбираться наверх.
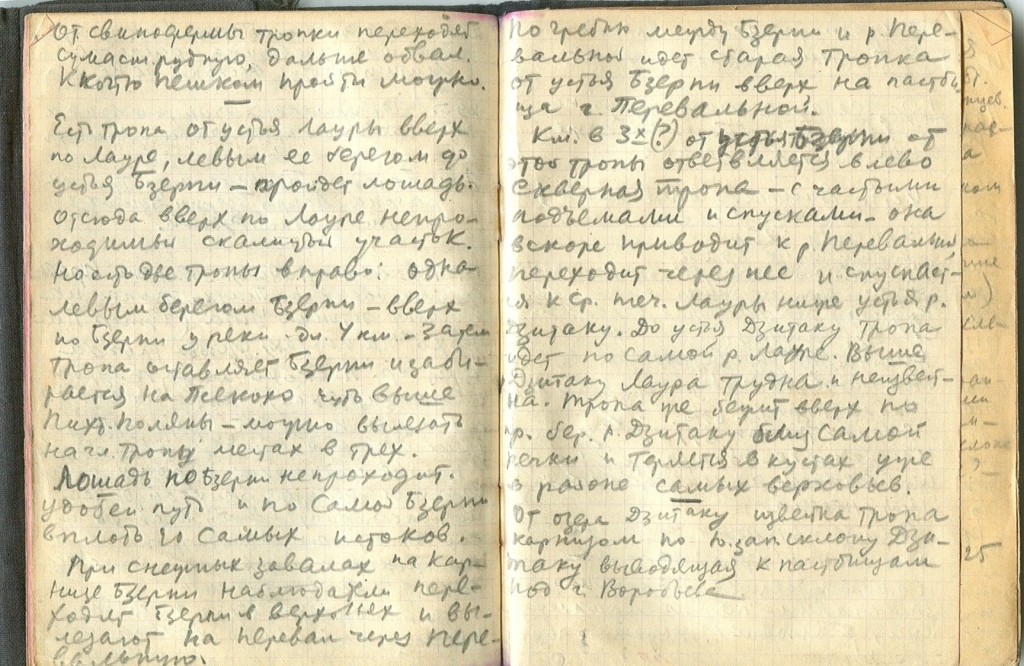
Страница из полевой книжки Ю.К. Ефремова с описанием долины Лауры
По дикой «рододе» поднимаемся на гребень отрога горы Перевальной. Долгий лесной подъем гребнем оказывается нетрудным. Видны старые заплывшие зарубки — значит, здесь бывали охотники. Выходим на верхнегорные луга против Бзерпинского карниза. Луговой отрог, на котором мы оказались, великолепно, всем своим фасом виден из Красной Поляны. Вот и она видна нам — с которого уже это — с двадцатого, с тридцатого «бельведера»?
Сидим, отдыхаем, любуясь подвластным нам горным простором, в котором одна Лаура осталась вызывающе непокорной. Картируем краснополянский склон Перевальной.
Над нами кружится орел. Спускается все ниже, ниже, он уже в тридцати, в двадцати метрах от нас. Как величава эта грозная птица в полете при полном размахе крыльев — совсем не то, что сидячие фигуры, нахохлившиеся на нашестах зоопарка, точно куры. Говорят, что орлы осмеливаются нападать на турят...
Орел делает еще круг и пролетает дерзко и гордо в двух метрах от нас — мы даже приготовились к обороне геологическими молотками. Казалось, что может сделать с двумя мужчинами какая-то птица? Сам помню, с каким недовернем читал в «Детях капитана Гранта» о нападении кондора на человека... Но, встретив взгляд хищника глаза в глаза, мы ощутили невольную дрожь. Таким гордым презрением, такой открытой ненавистью врага горели орлиные очи, устремленные на непрошеных госте


